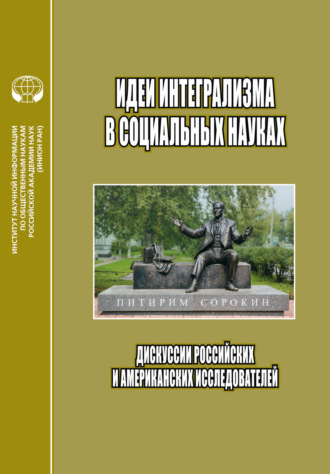
Полная версия
Идеи интегрализма в социальных науках. Дискуссии российских и американских исследователей

Идеи интегрализма в социальных науках: дискуссии российских и американских исследователей
© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2022
Д. В. Ефременко, А. Ю. Долгов
Сорокинский интегрализм и современное социальное знание: вступительная статья
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,
And prate about an Elephant
Not one of them has seen!
J. G. Saxe «The blind men and the elephant» (1872)Известная древнеиндийская притча о слепцах, ощупывающих огромного слона и на основе своих тактильных ощущений пытающихся дать его исчерпывающее описание, нередко вспоминается в тех случаях, когда представители различных культурных и интеллектуальных традиций пытаются анализировать многомерный феномен, который в пределы одной из этих традиций заведомо не «укладывается». Мир научных трудов, идей и прозрений Питирима Александровича Сорокина относится к числу таких феноменов. Этот мир огромен, даже если пытаться измерять его в сугубо формальных показателях, таких как тома, страницы, печатные знаки. Универсум Сорокина имеет и пространственно-временную протяженность, начавшись в отдаленном уголке севера Российской империи и закончившись поблизости от того места, где прибывавшие в Новый Свет колонисты обещали построить «град на холме». Восприятие интеллектуального наследия Сорокина в немалой степени обусловлено и его двуязычностью, причем хронологически более ранняя русскоязычная часть, недостаточно известная за пределами России, служит одним из ключей к пониманию многих принципиально важных англоязычных трудов.
Наследие Питирима Сорокина в России и Америке воспринимается по-разному. В нашей стране после снятия цензурных запретов коммунистического периода «возвращение» или – фактически – новое прочтение Сорокина в основном начиналось с русскоязычных публикаций и перевода на русский тех работ, для создания которых решающее значение имел опыт жизни и исследовательской деятельности в до- и послереволюционной России[1]. Рецепция «позднего» Сорокина, автора «Социальной и культурной динамики»[2] и творца новой версии интегрализма, проходила позже и в полной мере не завершена до сих пор. Тем не менее в современной России Питирим Сорокин видится как один из корифеев социального знания, к авторитету которого нередко апеллируют и в рамках вполне злободневных дискуссий.
В США, насколько можно судить, в отношении интеллектуального наследия Питирима Сорокина сейчас более распространен антикваристский подход, взгляд на его деятельность в увязке с общим контекстом развития американской социологии в 1930–1960-е годы. Наиболее значимыми для историков социологии и специалистов по социологической теории остаются в основном работы Сорокина о революции, социальной мобильности и стратификации. Поворот к интегрализму в его творчестве, обозначившийся в «Социальной и культурной динамике»[3] в конце 1930 – начале 1940-х годов, был принят академическим сообществом скептично, исследователи увидели в интегральном подходе скорее этическое учение и профетический пафос, но не научную теорию. Немалая часть современных западных исследователей, принадлежащих к мейнстриму социальных наук, предпочитает игнорировать вклад в них Сорокина только потому, что его амбиции построения интегралистской метатеории слишком расходились и расходятся с конвенциональными установками социального познания. Однако есть и активное меньшинство, убежденное в том, что сорокинский интегрализм – не просто важная веха истории наук об обществе середины XX в., но живительный источник обновления социального знания в веке XXI.
Ядро этого меньшинства составляют ученики Сорокина, ученики его учеников (в частности, те, чьим научным ментором был Э. Тириакьян), а также те социальные исследователи, для кого интегралистская перспектива представляется наиболее адекватной вызовам, с которыми сталкиваются сегодня социальные науки. Первую часть настоящего сборника составляет антология статей[4], подготовленная именно этой группой американских социологов и представителей других социальных наук. Но сама антология – не просто собрание текстов, объединенных тематикой интегрализма. Речь идет о проекте обновления социальных наук, фундаментом которого должны стать идеи интегрализма Питирима Сорокина. При этом проект предполагает достройку нового здания социальных наук за счет соединения идей Сорокина и католического мироучения, по крайней мере его основных постулатов, выдвигавшихся начиная с Фомы Аквинского и вплоть до Иоанна Павла II.
Этот проект обновления социального знания в своих интенциях не менее амбициозен, чем оригинальная версия профетической социологии самого Питирима Сорокина, поскольку он ориентирован в конечном счете на преодоление границ между знанием и верой, между фактом и ценностью. По этой же причине он сталкивается с теми же трудностями, что испытывал и сам Сорокин периода проповеди интегральной истины, воспринимавшийся многими представителями западного социологического мейнстрима в качестве «ненаучного негативного девианта»[5].
Антология «Обновление» под редакцией Кольберта Родса – наиболее значимая попытка развития идей Питирима Сорокина, предпринятая американскими исследователями уже в XXI в. Несмотря на ее очевидную дискуссионность, мы считали важным дать возможность ознакомиться с ней русскоязычным читателям. Помимо того, что эта антология позволяет уяснить, как воспринимают ее авторы наследие Сорокина и пытаются с ним работать, она важна и как критический Zeitdiagnose. Эта установка вполне естественна для авторов, позитивно воспринимающих сорокинскую профетическую социологию и активно выступающих в поддержку движения публичной социологии М. Буравого[6].
Но как и при жизни Сорокина использование веры, религиозных ценностей и интуиции в качестве полноценных ресурсов познания, а не только как объектов исследования, остается очень спорным решением с позиции академического сообщества. Так, в своей рецензии на антологию «Обновление» специалист по социологии морали Стивен Хитлин критикует ее авторов за неубедительность тезисов, поскольку то, что им кажется самоочевидным и не требующим доказательства, для остальных таковым не является и не может быть принято на веру без развернутой научной аргументации[7]. Иными словами, если авторы антологии верят в существование сверхчувственной интуиции и признают интеллектуальный авторитет религиозных текстов и религиозных деятелей, то применение их в качестве инструментов научного исследования оправдано и объяснимо. Но что, если ученый не разделяет те же религиозные ценности?
Есть вопросы и более фундаментального порядка. С момента своего возникновения сорокинский интегрализм не соответствовал или даже явно противоречил доминирующим принципам философии науки и основным линиям теоретизирования в социальных науках, что, безусловно, повлияло на его неприятие академическим сообществом. Например, это касается принципа верифицируемости М. Шлика и принципа фальсификационизма К. Поппера в логическом позитивизме; философско-антропологической аксиоматики Т. Гоббса и его решения проблемы социального порядка; тезиса о ценностной нейтральности научного исследования по М. Веберу. Эти критические вопросы продолжают вызывать споры в науке.
Входящие в американскую антологию тексты были подготовлены в начале 2000-х годов, главным образом, в период президентства Дж. Буша-младшего и – что важно в контексте направленности «Обновления» – на излете понтификата Иоанна Павла II. Но представленный в ряде вошедших в антологию статей критический анализ социокультурной динамики западных обществ, а также многих эффектов глобализации во многом предвосхищает те коллизии, которые в полной мере развернулись уже во втором десятилетии XXI в. Конструктивная программа авторов антологии, адресованная как научному сообществу, так и гражданскому обществу в Америке и за ее пределами, заслуживает содержательного обсуждения даже со стороны тех оппонентов, кто изначально не приемлет установки на преодоление барьеров между чувственным познанием, научной рациональностью и верой.
Вместе с тем мы сочли необходимым включить в данный сборник ряд статей российских авторов, рассматривающих проблематику интегрализма и в целом идейное наследие Питирима Сорокина. При этом мы не ставили задачу сформировать гомогенный корпус текстов, сопоставимый с антологией «Обновление». Как раз напротив, нам хотелось представить расширенный диапазон трактовок интегрализма и его оценок, включая и критические. При всей масштабности замысла авторов «Обновления», тема интегрализма им, очевидно, не исчерпывается, а российские исследователи могут внести в дискуссию свой оригинальный вклад.
Во второй части издания российские авторы фокусируют внимание как на истоках интегрализма Сорокина, так и на возможностях его использования при анализе актуальных социальных явлений и процессов. В статье Н. А. Головина рассматривается влияние немецкой социологии на работы П. А. Сорокина (в том числе на его амитологию – прикладную дисциплину, занимающуюся изучением дружбы, взаимопомощи и любви в индивидуальных и межгрупповых отношениях). В. А. Ковалёв критически переосмысливает «кризис нашего времени» – диагноз, о котором с моральных позиций писал поздний Сорокин. Проблематика кризиса как состояния социальной реальности рассматривается также в статье В. Н. Петрова. В. В. Василенко, опираясь на работы П. А. Сорокина, описывает сложность и многообразие культурно-исторического процесса. М. В. Ломоносова, применяя интегральный подход Сорокина, рассматривает историческую динамику статуса, культурного значения и социальных функций собора Святой Софии, находящегося в Стамбуле. В приложении к сборнику публикуется ранее не выходивший на русском языке текст П. А. Сорокина о Махатме Ганди, а также переписка П. А. Сорокина с немецким социологом Карлом Густавом Шпехтом (1916–1980).
И в заключение – еще об одном мотиве, побудившем нас подготовить это издание. На протяжении десяти лет, с концом так называемой политики «перезагрузки», напряжение в российско-американских отношениях неуклонно растет, возвращаясь к состоянию отчуждения и враждебности, характерному для эпохи холодной войны. Сказывается это и на интенсивности и качестве научных связей, хотя даже во времена холодной войны контакты между учеными использовались для поддержания каналов неформального диалога. Не питая иллюзий относительно скорого преодоления геополитической конфронтации между Россией и США, мы считаем важным внести свой вклад в сохранение и развитие сотрудничества российских и американских социальных исследователей. Личность и научное наследие Питирима Сорокина предстают в этом контексте достойной основой для их конструктивного взаимодействия. В конечном счете, рассматривая вслед за холодной войной нынешнюю российско-американскую конфронтацию как столкновение наций, каждая из которых стремится к лидерству, исследователи и аналитики едва ли не в первую очередь должны задумываться о сущности и высшем смысле такого лидерства. И здесь более чем уместна «подсказка» Питирима Сорокина:
«Если каждый из народов имеет способность к творческому лидерству, он должен сделать все, чтобы не стать „приманкой“ в руках деструктивных сил, а выполнять роль господина, контролирующего исторические силы. Конкуренция за такое конструктивное лидерство является взаимовыгодной, тогда как деструктивное лидерство самоубийственно и для обеих стран, и для всего человечества»[8].
К. Родс
Предисловие к российскому изданию[9]
Почему Сорокин по-прежнему интересен американским исследователямПитирим Сорокин по-прежнему интересен тем американским социологам, которые не удовлетворены малоуспешными попытками создать хорошее общество исключительно методами естественных (в том числе физических) наук. Последователи Сорокина искали альтернативу доминировавшей профессиональной социологии. Ученик Сорокина Эдвард Тириакьян предложил создать в Американской социологической ассоциации секцию, которая бы занималась реализацией идей его учителя. Новая секция, получившая название «Альтруизм, мораль и социальная солидарность»[10], была призвана стать проводником сорокинских идей и локомотивом трансформации человечества. Были проведены исследования, направленные на содействие построению хорошего общества, в котором люди будут стремиться делать добро друг другу. Эти исследования охватили весь микро-макро-континуум от индивидуального и межличностного до организационного и глобального уровня. Социологи изучали такие явления, как щедрость, прощение, неограниченная любовь, добродетель, благотворительность, межгрупповое сотрудничество и универсализация солидарности.
Основы дальнейшего развития секции заложил ее первый председатель Винсент Джеффрис, под чьей редакцией был выпущен «Хэндбук по альтруизму, морали и социальной солидарности»[11].
Секция была призвана отражать идеи Сорокина – и так это и было и есть до сих пор; тем не менее многие ее участники обогащают ее новым видением, поскольку представляют иные дисциплины, вносящие свой вклад в основополагающие идеи секции.
На американских социологов оказали влияние такие сорокинские идеи, как система индивидуального альтруизма, универсальная социальная солидарность и интегральная культура, делающая акцент на нормах и ценностях взаимопомощи и сотрудничества.
Краткое описание некоторых исследовательских проектов, осуществленных членами секции, демонстрирует неослабевающее влияние идей Сорокина на работы этих авторов.
Так, Эдвард Тириакьян изучал важность глобального альтруизма, который бы поставил во главу угла улучшение условий существования самых несчастных членов мирового сообщества[12]. Глобальный альтруизм будет видеть в другом неотъемлемую часть глобального сообщества; в итоге наше существование будет зависеть от благополучия других, живущих в одном мире с нами.
Роберт Патнэм и Дэвид Кэмпбелл исследовали связь между религиозностью и альтруистическим поведением, в частности пожертвованиями, волонтерством и участием в жизни сообщества[13]. Индивиды, которые вместе со своими близкими друзьями принимали деятельное участие в жизни церковной общины, либо были активными членами той или иной малой группы, либо же обсуждали религиозные вопросы с семьей и друзьями, оказались большими альтруистами, чем большинство американцев.
Изучая вопрос, почему филантропы жертвуют деньги другим людям, Пол Шервиш выяснил, что заботливость суть черта, позволяющая понять более глубокое значение благотворительности[14]. Когда кто-то делится с другими своими финансовыми ресурсами, это один из способов воплотить в жизнь дружескую любовь. Забота и дружеская любовь – ценные дополнения к концепту благотворительности.
По утверждению редакторов «Хэндбука по социологии морали» Стивена Хитлина и Стивена Вэйси, социальная ткань – это моральное измерение, а людьми движут моральные чувства, которые служат руководством к социальному действию[15]. Социальная солидарность в значительной мере является функцией коллективных моральных представлений, которые формируются в процессе альтруистических реципрокных взаимодействий, определяемых моральными и культурными структурными контекстами. Эти авторы стремятся способствовать возрождению науки о морали.
Джейн Пратер, университетский профессор, анализирует такой альтруистический акт, как обучение стигматизированных заключенных женской тюрьмы[16]. Посещение занятий позволило студенткам-заключенным поразмышлять о самих себе, лучше понять себя и свою жизненную ситуацию. Согласно Сорокину, обучение в университете дает возможность получить трансформирующий опыт, приводящий к альтруизму. Исследовательница обнаружила, что в тюремном колледже альтруизм принимает форму реципрокного круга. Те, кто дают, также и получают, а получающие желают давать еще больше. В терминологии Сорокина их альтруизм находит выражение в самоидентификации, испытании своей совести, размышлениях о собственной жизни и о влиянии своего поведения на других людей. Этот опыт делает учащихся альтруистичными, менее эгоистичными, в большей мере ориентированными на то, чтобы делать добро другим.
Патриция Херцог и Хизер Прайс, соавторы исследования о щедрости в Америке, опираются на идеи Сорокина о благотворительности[17]. Они выяснили, что основной источник щедрости – это социальная солидарность, объединяющая соседей, членов общества и целую нацию. Подобный опыт усиливает эмпатию, привязанность, гостеприимство и социальную связь с другими, что и находит свое выражение в проявлениях щедрости.
Мировые события, подтверждающие актуальность идей СорокинаМы по-прежнему нуждаемся в идеях Сорокина, чтобы остановить жестокие и разрушительные войны и революции, угрожающие выживанию человечества.
Ученый отмечал, что существующие институты, такие как Организация Объединенных Наций, и внешняя политика государств не способствуют установлению мира и даже провоцируют конфликты. Сорокин видел лучший способ достичь мира, о чем он писал в своей важной книге «Пути и могущество любви»[18]. В этой книге Сорокин описывает, как распространить неэгоистическую любовь на все человечество, тем самым покончив с внутригрупповым эгоцентричным трайбалистским национализмом.
Сорокин исследовал методы достижения альтруизма и этики любви, которые бы ослабили межгрупповые конфликты. Когда альтруистическая любовь распространится на все человечество, трайбалистская солидарность исчезнет и межгрупповые войны прекратятся.
По словам Сорокина, ненависть и борьба за превосходство могут быть переориентированы с межгруппового конфликта на умиротворение человечества. Он отмечал, что альтруисты и их системы нравственного воспитания рекомендуют культивировать смирение как высшую добродетель, поскольку единственное состязание, которое они допускают, – это состязание за смирение и бескорыстную любовь. Механизм формирования рефлексов и выработки привычки посредством обучения может привить дружественное поведение, что в итоге породит альтруизм и обеспечит гармонизацию всего человечества.
Сорокин показывает, как разум может, посредством рационального мышления, создавать универсальные системы ценностей и этики, тем самым способствуя единению человечества. Он подчеркивал, что главным источником мира между народами является наличие у взаимодействующих наций хорошо интегрированной системы базовых ценностей и норм, основанных на золотом правиле.
Согласно Сорокину, бессознательные и сознательные силы не могут устранить межличностные конфликты без руководства и творческой поддержки сверхсознания. Истина, заключающаяся в том, что неэгоистическая созидательная любовь – это высшая моральная ценность, была явлена великими апостолами любви, нравственными мудрецами и религиозными провидцами.
Самоидентификация со сверхсознанием как высшим и истинным Я индивида – это первый шаг в его альтруистическом развитии. Такая самоидентификация происходит постепенно, трансформируя личности и поведение людей, активируя их творческий и альтруистический потенциал и превращая человека в истинного сына Божьего.
Самоидентификация должна осуществляться в раннем возрасте посредством индивидуального обучения, начинающегося в детстве. Техники добрых дел, молитвы и медитации могут привести к реинтеграции ценностей, эго и норм поведения индивида на основе сверхсознания и неограниченной любви.
Сорокин признает тот факт, что в нынешних условиях немногие могут достичь альтруизма и неограниченной любви. Общество нуждается в институтах и культуре, благоприятствующих идеалу универсальной и посттрайбалистской солидарности. Ученый понимал, что его усилия – это лишь начало. Он подчеркивал, что за несколько десятилетий можно было бы добиться большого прогресса, если бы ученые и основные институты общества приложили значительные усилия для достижения всеобщего альтруизма, этики любви и универсальной солидарности. Вот его совет, которому мы должны следовать.
Важность русско-американского проекта и значение взглядов на социологию Сорокина из двух стран для сорокиноведенияДанный российско-американский проект представляет большую важность, учитывая сохраняющуюся угрозу ядерной войны. Чтобы продемонстрировать солидарность между нашими двумя странами, мы можем начать с академического уровня. Тесное исследовательское сотрудничество, обмены университетских преподавателей, совместные конференции, университеты-партнеры, совместные публикации – все это может показать общественности и нашим правительствам, что хорошие отношения возможны. Эту модель хороших международных взаимоотношений можно было бы распространить и на другие группы.
Мы должны работать сообща, подхватив эстафету там, где Сорокин остановился, и следовать его указаниям, продолжая исследования методов обучения людей альтруизму и этике любви. В настоящее время эти исследования ограничиваются обменом результатами с другими учеными и не доводятся до остального общества.
Наш следующий шаг – оказать влияние на широкую общественность посредством исследований Сорокина и других ученых. Сам мыслитель решил писать популярные книги и статьи, которые рассказывали о его целях по достижению универсальной международной солидарности, основанной на этике любви.
Сорокин видел, что все ведущие мировые религии содержат в себе некоторую версию золотого правила, из которой возникли разделяемые ими моральные ценности. Россия и Америка – большей частью христианские нации. Один из путей, по которому мы можем пойти, – это использовать идеи Сорокина, сопряженные с христианством, и затем убедить христианских интеллектуальных лидеров в России и Америке принять участие в международных дискуссиях, посвященных продвижению альтруизма, морали и социальной солидарности во всех сферах их обществ. Когда общества станут более нравственными, политические лидеры станут менее агрессивными. Христианские группы могут постараться убедить политических лидеров обеих стран найти мирные решения национальных проблем. Это большая и трудная задача, которой нужно заняться.
Питирим Сорокин и Уолтер Лунден в своей книге «Власть и нравственность: кто будет сторожить сторожей?» предлагают способ, как странам достичь морального блага, покончив с абсолютной и принудительной властью политических элит[19]. Когда правительства действуют в среде хорошо интегрированного, единого морального общественного мнения, готовность правителей преступить черту закона может сравняться или даже упасть ниже уровня преступности среди населения, которым они управляют.
Часть 1. Обновление: включение интегрализма и моральных ценностей в социальные науки[20]
К. Родс
Введение
Посвящение
С благодарностью я посвящаю эту книгу моей дочери Шэрон Родс Коварт и моему зятю Дэвиду Коварту, без поддержки и поощрения которых этот труд не был бы написан. В процессе его написания я с особым удовольствием проводил время в компании моих внучек Пайпер и Кейт. Кроме того, я посвящаю эту книгу памяти моей покойной жены Кей Родс и моей покойной матери Оттали М. Родс, а также моей дочери Диане Бет Родс, которые вдохновляли меня на исследования и публикации на протяжении многих лет.
Цель антологии
Стремление к обновлению социальных наук должно начинаться с признания ограниченности науки и разума как методов морального восстановления общества. Лишь духовные ценности с помощью науки и разума позволят обновленной социальной науке достичь моральных истин, которые могли бы направлять человеческое поведение. Тогда человечество смогло бы прийти к моральному реализму, альтруистическому поведению и социальной солидарности, результатом чего стали бы гармоничные человеческие взаимоотношения и мир на земле.
Авторы статей в данной антологии – ученые, которые считают важным продемонстрировать, как интегрализм Сорокина может обогатить исследования в социальных науках и способствовать развитию социальной теории. Они стремятся сочетать науку с духовными ценностями и моралью, что позволит создавать хорошие общества и обрести межкультурную гармонию. Цель интегральной социальной науки Сорокина – реконструировать людей, общество и культуру, с тем чтобы, научившись действовать альтруистически, они смогли достичь большей любви. В религии можно было бы почерпнуть нормы, которые бы научили людей преодолевать замкнутый на себе эгоизм. Фокусируясь на любви как добродетели, интегральный подход стремится заложить основы взаимодействия между социальной наукой и религией.
Современное состояние социальных наук
Основной вопрос на сегодняшний день заключается в том, как социальные науки могут сделать человечество лучше. Чтобы решить эту проблему, необходимо понимать историческую динамику нашего познания природы людей и материальных объектов. Возникший в позднем Средневековье спор между реалистами и номиналистами о природе людей и материальных объектов заложил основы концептуализма Уильяма Оккама. Вопрос заключался в том, следует ли изучать людей и физические объекты по их внешним характеристикам или же по их внутренним свойствам. Оккам подчеркивал, что все, что мы можем знать, – это дискретные фрагменты наблюдаемых явлений. Согласно ему, понятия просто позволяют исследователю определенным образом организовывать явления, при этом они не способны постичь сущность или природу материальных либо нематериальных объектов. Спустя столетия идеи Оккама привели к современному господству научного эмпиризма как единственного источника надежного знания.


