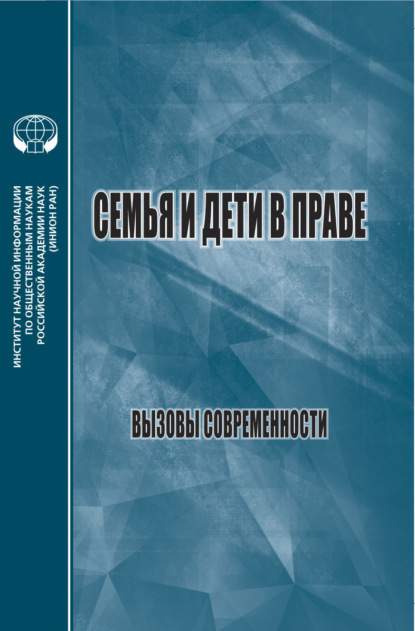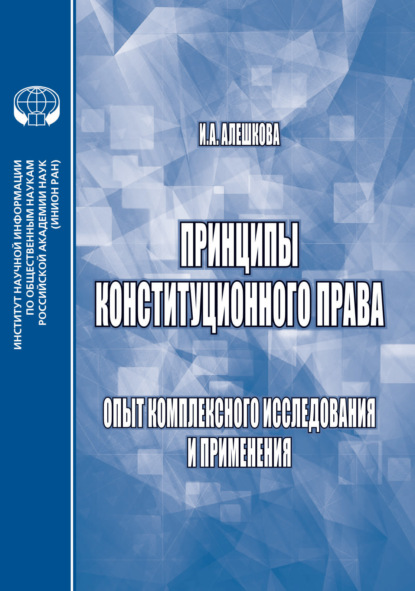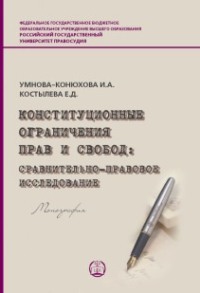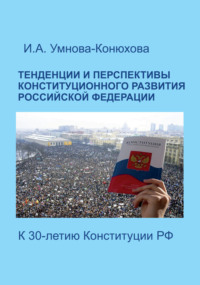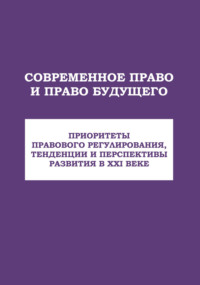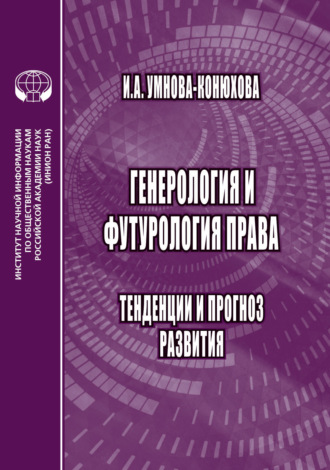
Полная версия
Генерология и футорология права. Тенденции и прогноз развития

И. А. Умнова-Конюхова
Генерология и футурология права: тенденции и прогноз развития
© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2023
© Умнова-Конюхова И. А., 2023
Введение
В XXI столетии на фоне все возрастающего общественного запроса на научно-обоснованные предсказания будущего беспрецедентно актуализировалась потребность в объективных прогнозах развития права.
Отставание по таким позициям, как выработка концепций и стратегий правового развития в ответ на стремительно меняющуюся реальность; своевременное обновление права, его систематизация и кодификация с определением направлений совершенствования в целом и по его отдельным отраслям и институтам; выявление тенденций и перспектив обновления, модернизации и трансформации права, – постепенно ввергло человеческую цивилизацию в правовой кризис и создало угрозу правового хаоса. Внешне правовой кризис проявляется в том, что правовое развитие сегодня – это не всегда своевременное, обоснованное и последовательное обновление права, адекватно отражающее складывающиеся реалии. Современное право напоминает ветхое лоскутное одеяло с многочисленными заплатами и дырками.
В нынешнюю эпоху ускорения и усложнения взаимодействия между субъектами правоотношений реагирование на изменения и потребности в правовом регулировании зачастую происходит в виде импульсивного, конъюнктурного и непродуманного правотворчества, порождающего многочисленные и противоречащие друг другу по содержанию источники права, все более усложняющие возможность правореализации и правоприменения. Сталкиваясь с новыми запросами на противодействие глобализирующимся угрозам и вызовам человеческой цивилизации, на трансформацию макро- и микросистем регулирования и управления под воздействием научно-технологического прогресса, правовой инструментарий запаздывает или оказывается беспомощным в решении возникающих задач и проблем развития. Попытки судами и другими правоприменителями скорректировать и адаптировать «замысел» законодателя, снять коллизии и пробелы в праве коренным образом не меняют ситуации, которую можно охарактеризовать в целом как правовой коллапс.
Причина происходящего прежде всего кроется в том, что у права будущего нет ясной парадигмы развития. В основе движения в будущее должна лежать фундаментальная идея и основанные на ней ценности и цели развития. Но определены ли они таким образом, что способны обеспечить истинный прогресс для человека и человечества? Вопросов, возникающих по этому поводу, немало. Увлекаясь анализом принципов и норм права, правоведы мало изучают динамику их реализации и почти не смотрят в будущее, не дают долговременных прогнозов. Поэтому известных футурологов-провидцев среди правоведов нет, эту нишу заняли философы, политологи, экономисты, социологи, историки и другие обществоведы, которые оказались намного ближе к практике и анализу развития реальных отношений, но не владеют правовым инструментарием их регулирования.
Справедливости ради следует отметить, что современная теория права благодаря междисциплинарным подходам развивается весьма интенсивно и подвергается значительной дисперсии. Это выразилось, в частности, в продвижении зарубежными и отечественными правоведами таких учений и методологий, как телеология права и онтология права, правовая аксиология и правовая антропология, правовая герменевтика и правовая когнитивистика, социология права и кибернетика права и т. п. Развитие этих и других учений происходит, однако, пока довольно хаотично, без системной взаимосвязи и последовательного их внедрения в образовательные дисциплинарные курсы по теории и философии права. Кроме того, как представляется, данным учениям не хватает синтезирующего направления диагностико-прогностических исследований, которое способно взять на себя именно правовая футурология. Вслед за признанием такой науки важно выделить внутри нее соответствующие новые институты (или направления) научных исследований, к которым, как минимум, сегодня уже можно отнести генерологию права (учение об эволюции и поколениях правовых систем и правовых явлений); диагностическое право (оценка состояния и тенденций развития права); прогностическое право (учение о прогнозировании и определении перспектив развития права); модернизационное право (программно-стратегические исследования по обновлению и совершенствованию права).
В данной монографии автор исходит из того, что в контексте футурологического анализа применительно к праву как сложной и многоуровневой системе речь должна идти по крайней мере о следующих составляющих:
– о правовой футурологии или футурологии права как правовой науке,
– футуристическом праве как отрасли права нового поколения,
– правовом футуризме как принципе и методологии права,
– правовой футуристике как сфере человеческой деятельности и объекте правового регулирования, соответственно.
Содержание правовой футурологии объективно предопределяется тенденциями и перспективами развития цивилизации, общества и государств, выявляемыми футурологией. Футурология от лат. futurum – будущее и греч. λόγος (логос) – это учение, предметом которого является прогнозирование будущего, в том числе путем экстраполяции существующих технологических, экономических или социальных тенденций или предсказания будущих тенденций. Методы изучения тесно связывают футурологию с историей, политологией, социологией и другими общественными науками.
Всплеск футурологии пришелся на 1960–1970 годы. Наибольший интерес у футурологов в этот период вызвали прогнозы научно-технического и технологического прогресса, получившего в 1970-годы невиданные масштабы и темпы развития. Стали прогнозироваться естественно-научная, технологическая, социальная, экологическая и иные составляющие прогресса. Данные сферы научного интереса в том же векторе начали в дальнейшем дифференцироваться под влиянием развития информационно-цифровых, инженерных, медицинских, биологических, нейронных и иных новых технологий, обещающих существенно преобразовать жизнь отдельного человека и человечества в целом к концу XX столетия. Вместе с данными технологиями в цивилизацию пришли понятия ускорения и роста развития, правовые границы которого, однако, не были выставлены, что обусловило появление целого ряда угроз и вызовов жизни и здоровью человека, его индивидуальности и самосознанию как личности. К сожалению, именно технологический акцент оценки научно-технического развития в футурологии стал определяющим для измерения прогресса.
При оценке перспектив развития человечества объяснимо конкурируют «оптимистическое» и «пессимистическое» направления прогнозирования. Общая парадигма оптимистического прогноза состоит в следующем постулате: будущее человечества зависит от того, насколько полно удастся наполнить гуманистическим содержанием научно-техническую, технотронно-электронную, технологическую и другие революции, свидетельствующие о качественном прорыве цивилизационного развития. Важно признать, что для права главный вектор развития состоит в его гуманизации, т. е. в продвижении и защите интересов человечества, которые обеспечивают гармоничную жизнь и прогресс. Оценка и прогнозы тенденций правового развития в этом направлении связаны с различными методологиями системного, диалектического, интегративного, телеологического, аксиологического, онтологического, герменевтического, социологического, сравнительного, кибернетического, синергетического и иных типов анализа, с новыми методологиями деонтической логики, семиотики, гомологии, таксономии, конгруэнтности и других научных подходов и технологий междисциплинарного исследования, обеспечивающих его объективность и всесторонность.
Данная монография – результат систематизации и развития авторских исследований по выдвижению инновационных идей признания современным правоведением науки правовой футурологии и футуристического права как отрасли права, а также по формированию нового учения и будущей науки – генерологии права, которая в определенной мере может быть интегрирована в футурологию права как научно-правовой институт. Частично общие идеи правовой футурологии были проанализированы в изданной ранее монографии, посвященной конституционному футуристическому праву и конституционной футурологии (Умнова-Конюхова И. А. Конституционное футуристическое право и конституционная футурология в XXI столетии. – Москва: Русайнс, 2021. – 286 с.). Выход этой книги позволяет, как представляется, еще более последовательно и системно продвинуться в создании научной школы генерологии и футурологии права, аналогов которой нет пока ни в отечественном, ни в зарубежном государственном, ни в международном правоведении.
Глава 1. Формирование и развитие футурологии права как правовой науки
1.1. Футурология – наука о будущем: возникновение и развитие
Ускорение диалектики синхронизации прогресса и регресса в современную эпоху, глобализация и дифференциация общественных отношений, появление новых угроз и вызовов человеческой цивилизации – эти и другие тенденции современной жизни актуализировали научные теоретические и прикладные исследования, определяющие прогноз и перспективы нашего будущего при выборе тех или иных векторов и моделей развития. Запрос на такие исследования заставляет нас обратить более пристальное внимание на футурологию как на науку, на футуризм как учение (принцип и методология) и на футуристику как сферу человеческой жизнедеятельности.
В современную эпоху футурология преобразовала учение о футуризме как принципе и методологии познания в науку, которая занимается прогнозированием и моделированием будущих эволюционных процессов. Футурология (лат. futurum – будущее и греч. λόγος – учение) в современном понимании – это наука, разрабатывающая учение о будущем: прогнозирование будущего, в том числе путем экстраполяции[1] существующих технологических, политических, экономических, социальных, культурных и иных знаний, формирование обоснованных выводов о прошлых, настоящих и будущих тенденциях развития в их диалектической взаимосвязи и динамике.
Несмотря на важность понимания футурологии как сложносоставной межпредметной комплексной науки о будущем в экзистенциональном и динамическом измерении фундаментальных вопросов бытия и развития, большинство исследователей опираются лишь на ее теоретические или, наоборот, сугубо прикладные свойства, связанные с новыми технологиями исследований, обусловленными цифровизацией и искусственным интеллектом[2]. Как замечает, к примеру, В. И. Крусс, заявившая о себе в середине XX столетия скорее с философских позиций футурология все более тяготеет к научности, стремясь исследовать «дремлющие факторы» будущего с позиций рациональной индукции и логики, помноженной на ресурсы компьютерного прогнозирования и темпоральной экстраполяции[3].
Между тем встречаются и более глубокие подходы научного футурологического анализа, связанные с определением тенденций и процессов сущностного преобразования и факторов развития, с новыми методологиями диагностики и прогнозирования, с критикой существующих футурологических прогностических исследований[4]. В частности, Ивайло Лазаров обращает внимание на антипроективность по отношению к большинству футурологических прогнозов и моделей на будущее. Этот критерий основан на понимании исследователем того, что модальность времени, и особенно с учетом агонии больших политических проектов, давно перешла в антипроективную эпоху. Он утверждает, что эпохальность является значимой во времени только тогда, когда трансцендентно (т. е. в соответствии с неотложной генеалогией всех возможных смыслов, дающих значение) предполагается ответственность субъекта за то, чтобы разделять смысловую и социальную значимость определенного дискурсивного содержания[5].
Представляется, что футурология как сложносоставная межпредметная и комплексная наука о будущем опирается на синтез ментальных, поведенческих и реальных процессов, анализируемых в диалектике времени и пространства. Американский философ и футуролог Р. А. Уилсон заметил, что «будущее существует сначала в воображении, потом – в воле и в действии, а потом уже в реальности»[6]. Формирование представлений о будущем является основой научного доктринально-стратегического мышления и, соответственно, стратегического программирования, планирования и управления. Отсутствие же этих категорий, как правило, крайне негативно сказывается как на государствах, так и на любых более или менее серьезных начинаниях человеческой жизнедеятельности[7].
Главной целью футурологии как науки является не столько прогнозирование каких-то конкретных или единичных событий, сколько представление нашего вероятного или альтернативного будущего в целом. В то же время футурология формирует учения – теории, концепции, доктрины, прогнозы о будущем применительно к определенному историческому этапу политического, социального, экономического, духовно-культурного и иного развития с помощью обобщения эмпирического опыта по изучению отдельных явлений и событий.
Попытка построения футурологии как науки была инициирована самим ходом истории и сегодня, как никогда, приобрела чрезвычайно важный, жизненно необходимый смысл выживания и развития. Масштабные события и ускорение перемен в XX в. поставили под сомнение истинность уже устоявшихся или традиционных исторических версий развития человеческой цивилизации. Выдвинутая исследователями тема «конца истории», понимаемая как закономерный результат предшествующего развития общества, актуализировала проблемы выживания и преодоления неизвестности и неопределенности будущего. В этом контексте обращает на себя внимание Доклад ООН о человеческом развитии 2021/2022 гг. «Неопределенные времена, неустроенные жизни: Формируя наше будущее в меняющемся мире», в котором откровенно заявляется, что человечество живет в неопределенное время[8]. Разработчики доклада ставят задачу найти нужные ответы, серьезно взглянуть на устоявшиеся и чрезмерно упрощенные предположения о том, как принимаются решения.
Футурологию, как представляется, можно рассматривать в широком и узком значениях. В широком – это собирательный термин, принятый для обозначения разнообразных исследований о будущем человечества; в узком – это область строго научно-ориентированных знаний, охватывающая оценку тенденций, прогнозы и перспективы развития процессов и явлений.
В авторском понимании футурология – это междисциплинарная наука, которая анализирует прошлые, настоящие или текущие события с целью прогнозирования будущих событий, определения этапов (поколенческих или генерологических процессов), тенденций и перспектив развития, формирования стратегий и программ модернизации и совершенствования человеческой жизнедеятельности на разных уровнях ее проявления (планетарный, региональный, государственный, внутригосударственный, локальный и пр.). Данная наука дифференцируется применительно к отраслям знаний и развивается как экономическая, политическая, социальная, экологическая, духовная, правовая, культурологическая, космическая, биологическая и другие виды футурологий как отраслевых наук, привязанных к конкретной сфере знаний (экономическая, политическая, социальная, экологическая, правовая футурологии и пр.). Отражая запросы на прогнозы, современные отечественные исследователи привязывают футурологию к глобальным международным и государственным политическим процессам[9], изучению проблем милитаризма[10], экологической, биологической[11], генетической[12], продовольственной[13] и иной безопасности, а также другим актуальным задачам цивилизационного развития.
Наряду с серьезной научно-прогностической и прикладной, прагматическо-преобразовательной или созидательной миссией определения будущего футурология начала проявлять себя в общественном сознании как жанр человеческой жизнедеятельности, особенно в искусстве, произвольно интерпретирующем человеческое будущее с использованием фантазий и мистификаций. В число футурологов стали включаться не только ученые, глубоко оценивающие и обосновывающие происходящие процессы, но и писатели-фантасты, режиссеры и сценаристы, снимающие фантастические фильмы, художники, публицисты, путешественники и пр. Под знаменем футурологии активно реанимируется и провидение, идущее еще от древних времен. Число «предсказателей» и «провидцев» не уменьшается, а растет по мере развития человеческой цивилизации.
Таким образом, в зависимости от трактовки футурология понимается в разных аспектах: как строгая наука о будущем, как попытка сформулировать принципы нового мировоззрения и «цели для человечества» (А. Печчеи), как новая мифология, признанная сплотить жителей «мировой деревни» (Д. Шелл). При этом различен не только круг футурологов, но и уровень объектов футурологических исследований. Это мир и человечество в целом, мировая экономика (Римский клуб, Всемирный банк), будущее конкретных стран (Г. Кан), грядущие изменения мирового порядка (Ж.-Ж. Серван-Шрайбер), возможные изменения этических ценностей и социальных приоритетов (С. Ниринг) и др.
По мнению ряда исследователей, такое разнообразие интерпретаций футурологии не позволяет говорить о ней как о конституированной социальной дисциплине[14]. В силу вольного и широкого толкования авторитет футурологии оказался весьма зыбким. Ситуацию, однако, стоит изменить. Следует понимать, что в современной науке, призванной обслуживать запросы на серьезные аналитические исследования о будущем, важно разграничивать исследования футурологов, базируемые на объективации и обосновании закономерностей и перспектив развития с использованием апробированных методологий научного анализа, от предсказаний социализированных провидцев, представляющих свои выводы на основе интуиции, опыта, озарения или применения духовных знаний.
Считается, что футурология как новая область познаний впервые была предложена писателем-фантастом Х. Г. Уэллсом[15]. Официально термин «футурология» был введен в научный оборот в 1943 г. немецким социологом О. Флехтхеймом для обозначения социальной дисциплины «философия будущего», основным предметом которой должно было стать будущее человечества и человеческого общества[16].
В период с конца 1960-х по 1970-е годы сформировалось понятие футурологии как «науки о будущем» и «истории будущего», ориентированных на познание перспектив всех явлений действительности и прежде всего социальных. Такое понимание футурологии было связано с появлением в этот период специальных учреждений – научных центров, разрабатывавших научно-технические и социально-экономические прогнозы, и содержало претензию на монополизацию прогностических функций существовавших научных дисциплин.
С 1960-х годов преобладающим в западной футурологии стало технократическое направление, апологизировавшее научно-технический прогресс как главное средство разрешения социальных проблем. Данным направлением была выдвинута концепция «постиндустриального общества», трактовавшая перспективы развития человечества со сциентистских позиций. (Д. Белл, Г. Кан, Зб. Бжезинский и другие). В рамках леворадикального течения футурологии (А. Ускоу и другие) научно-технический прогресс трактовался как катализатор неизбежного краха западного общества.
Термин «постиндустриализм» возник еще в начале XX в. в работах английских ученых А. Кумарасвами и А. Пенти, а понятие «постиндустриальное общество» впервые использовал в 1958 г. Д. Рисмэн. Однако основоположником постиндустриализма как учения считается американский социолог Дэниел Белл[17], разработавший целостную теорию постиндустриального общества. Д. Белл утверждал, что история человечества – это последовательный процесс смены трех фаз цивилизационной организации общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. В качестве критериев градации он использовал уровень развития экономики и интеллектуальные культуры[18].
На развитие футурологии по второй половине XX столетия существенное влияние оказала холодная война – глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 г. до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного был СССР, а другого – США. Во время холодной войны Герман Кан, Олаф Хелмер и другие эксперты в Центре «RAND Corporation» заложили методологические основы для футурологии, используя сценарную технику, теорию игр и системный подход для анализа военной стратегии. Г. Кан попытался спрогнозировать грядущее путем сравнительного анализа стран различного культурного и экономического уровня. Изучались результаты достижения целей, поставленных в прошлом, но возможность единого будущего человечества отрицалась[19].
В конце 1960 – начале 1970-х годов на первый план в футурологии выходит изучение глобальных проблем. Ведущей организацией данного направления стал Римский клуб (А. Печчеи, А. Кинг, Д. Медоуз, Э. Пестель, М. Месарович, Э. Ласло, Дж. Боткин и другие), инициировавший глобальное моделирование перспектив развития человечества и «пределов роста» технологической цивилизации.
В 1961 г. после публикации основной книги «О термоядерной войне» Герман Кан покинул RAND, чтобы сформировать институт Хадсона (Hudson), где занялся социальным прогнозированием и государственной политикой. Его работа завершилась выходом в 1967 г. книги «Год 2000: основы для обсуждений следующих 33 лет», которая вызвала большие споры и вдохновила на выход таких влиятельных и дискуссионных футурологических работ, как «Пределы роста» и «Человечество на переломе».
Доклад Римскому клубу «Пределы роста», опубликованный в 1972 г. учеными-экологами Донеллой Х. Медоуз, Деннисом Медоуз, Йоргеном Рандерс, Уильямом Беренс В. ІІІ из Массачусетского технологического института, содержит результаты моделирования роста человеческой популяции и исчерпания природных ресурсов. Основываясь на компьютерных моделях, описывающих взаимодействие мировых социально-экономических тенденций, доклад представляет апокалиптические картины глобального коллапса, связанного с ростом населения, индустриальным развитием, увеличением загрязнения, нехватки еды и истощением природных ресурсов.
В свою очередь двое других исследователей RAND, Олаф Хельмер и Т. Дж. Гордон, основали Институт будущего и стали пионерами в области использования сценариев в предсказании развития событий будущего. Элвин Тоффлер в 1966 г. впервые начал преподавать курс, посвященный футурологии, в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Большинство ключевых идей Тоффлера было представлено в его книге «Шок Будущего» (Футурошок, 1965 г.)[20] о влиянии ускоренных темпов изменения в обществе, в том числе «супериндустриализации» и «информационной перегрузке».
В рамках футурологии последней трети XX в. можно выделить направления «экологического пессимизма» (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, Р. Хейлбронер), прогнозирующего негативные последствия развития человечества, и «научно-технического оптимизма» (Э. Тоффлер, М. Месарович, Э. Ласло, Э. Пестель), обосновывающего возможность реализации позитивных тенденций технологического развития.
На рубеже XX и XXI вв. футурология приобретает новый потенциал на фоне так называемой четвертой промышленной революции[21]. Если первые три промышленные революции были основаны на энергетике и праве собственности на материальные активы, то четвертая – цифровая – базируется прежде всего на результатах интеллектуального труда. В реалиях четвертой промышленной революции, или «Индустрии 4.0», встают вопросы отношений между человеком и роботами, безопасности человека, необходимости определения статуса уже существующих и новых участников (роботов, искусственный интеллект) правоотношений[22].
В условиях четвертой промышленной революции изменения охватывают разные стороны жизни: рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, человеческую идентичность и др. Основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб характеризует масштаб изменений как беспрецедентный для истории человечества. Перемены затронут всех: отношения человека с миром, с собой и другими людьми кардинально изменятся. По мнению Клауса Шваба, человечество стоит на краю новой, т. е. пятой технологической революции, которая кардинально изменит то, как мы живем и работаем, относимся друг к другу. Подобного масштаба и сложности перемен человечеству еще никогда не доводилось испытывать. Конечно, сейчас невозможно предвидеть, как она будет разворачиваться, но уже сейчас очевидно, что она затронет все группы, слои и прослойки человечества, все профессии и т. д.[23]
Крупные сдвиги в политической, социальной и экономической сферах требуют хотя бы относительной определенности в оценке масштаба и направленности изменений. Модели построения нового общества, предложенные футурологами, различны.