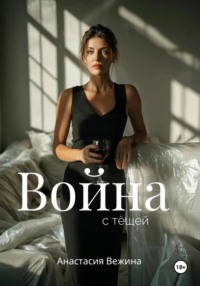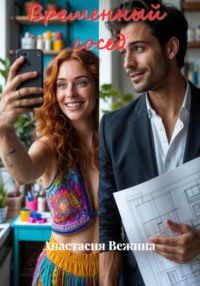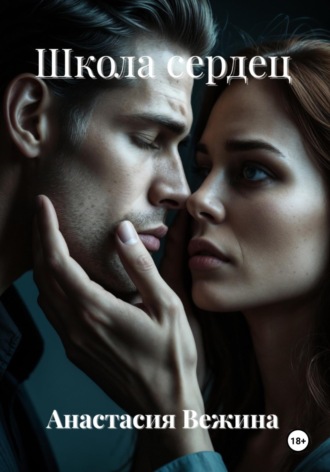
Полная версия
Школа сердец
– Он про кого угодно может сказать гадость, – продолжила Елена. – И у него такая манера… будто ему всё равно. Но это “всё равно” обычно громче любой истерики.
Я закрыла папку и убрала выбившуюся прядь волос за ухо.
– Спасибо, – сказала я. – Я запомнила.
Елена задержалась в дверях.
– И ещё, – добавила она, чуть понизив голос. – Орлов после педсовета ходит злой.
– Это его базовое состояние.
Елена криво улыбнулась.
– Сегодня он будет рядом. У девятого “А” математика сразу после твоего занятия. Он… может заглянуть.
В животе неприятно потянуло, как перед контрольной, которую ты не сдаёшь, но почему-то отвечаешь.
– Пусть заглянет, – сказала я и сама удивилась, что голос не дрогнул. – Я не собираюсь делать вид, что меня нет.
Елена ушла, а я осталась одна и на минуту позволила себе слабость: закрыла глаза и прижала ладонь к груди, ровно туда, где всё время сидела тревога.
“Дыши. Держи рамки. Не оправдывайся”, – сказала я себе.
Потом встала и пошла за классом.
Девятый “А” пришёл шумно, как стая. Они входили в кабинет, уже разговаривая друг с другом, уже смеясь, уже оценивая меня глазами так, будто я новенькая учительница, которую можно поставить на место одним словом.
Кто-то сразу плюхнулся на последний ряд. Кто-то демонстративно положил телефон на парту. Две девочки у окна смотрели на меня с интересом и лёгким ожиданием спектакля. Парни в центре переговаривались вполголоса, но так, чтобы я слышала.
А потом вошёл он.
Кирилл Волков не был самым высоким или самым громким. В этом и была его сила. Он вошёл спокойно, как человек, который знает: ему не нужно доказывать, что он главный. Он просто действует так, будто это уже факт.
Он сел не на последнюю парту – на вторую, ближе к центру. Скрестил руки, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня прямо, чуть прищурившись.
– Ну, – сказал он громко, не поднимая руки. – Начнём… сердца качать?
Кто-то засмеялся. Кто-то прыснул.
Я почувствовала, как у меня вспыхнули уши – мгновенно, предательски. Но я не отвела взгляда.
– Начнём, – согласилась я. – Только качают мышцы. А мы будем учиться думать и выбирать.
– Ого, – протянул Кирилл. – Уже угрожает.
Смех снова пошёл волной.
Я подошла к доске, написала маркером: “ПРАВИЛА”.
– Сначала правила, – сказала я. – Без них разговоров не будет. Мне не нужны исповеди. Мне нужен безопасный класс.
– Безопасный класс? – повторила девочка с косичками. – Это как?
– Это когда никто не унижает другого, – ответила я. – Ни в лицо, ни в сторис, ни в чате.
На слове “сторис” кто-то оживился. Понятно. Их реальность там.
– А если он сам тупит? – спросил парень с третьего ряда. – Ну, реально… иногда же хочется сказать.
Я кивнула.
– Есть разница между “сказать по делу” и “сделать больно”, – сказала я. – По делу – это про действие: “ты опоздал”, “ты списал”, “ты мешаешь”. Сделать больно – это про человека: “ты никто”, “ты позор”, “тебя никто не любит”.
Тишина стала чуть плотнее. Не потому, что они согласились. Потому что услышали прямые формулировки – без сюсюканья.
Кирилл всё ещё смотрел на меня с тем самым прищуром.
– А вы кто такая, чтобы нам тут правила ставить? – спросил он.
Вот оно. Прямо в лоб.
И не из злости – из привычки проверять границы.
– Я – Марина Игоревна, педагог‑психолог, – сказала я. – И это мой кабинет. На этом занятии правила такие. Если кто-то не готов – можно молчать. Но мешать другим нельзя.
– То есть если я молчу, мне можно? – уточнил Кирилл, чуть улыбаясь.
– Если молчишь и не мешаешь – можно, – ответила я. – Но я всё равно буду задавать вопросы. Я не отстану только потому, что тебе скучно.
В классе кто-то тихо “о-о-о”.
Я увидела – они ловят не смысл, а то, выдержу ли я.
– Ладно, – сказала я и повесила на доску лист “КОНТРАКТ”. – Первый пункт: “Не унижать”. Согласны?
Кто-то буркнул “да”.
Кто-то пожал плечами.
Кирилл молчал.
– Второй пункт: “Можно не отвечать, если не готов”. Согласны? – продолжила я.
Это понравилось больше: кто-то оживился, кивнул.
– Третий: “Если кто-то говорит – не перебиваем”.
– А если фигню говорит? – снова Кирилл.
Я повернулась к нему.
– Тогда ты можешь сказать: “Я не согласен”, – сказала я. – Но не можешь сказать: “Ты идиот”.
Он хмыкнул, как будто оценил формулировку.
Я закончила “контракт” и поставила подпись внизу.
– Теперь практика, – сказала я. – Две минуты. Только две. Никто не умрёт.
Я включила таймер.
– Закройте глаза, если готовы. Если не готовы – смотрите в парту. Суть простая: заметить, что вы чувствуете прямо сейчас.
Сразу послышались смешки.
Кто-то демонстративно не закрыл глаза.
Кирилл сидел, не двигаясь, и смотрел на меня.
– Это не медитация, – сказала я спокойно. – Это навык. Замечать. Потому что если ты не замечаешь, что с тобой происходит, ты управляешься не собой, а импульсом.
– Импульсом? – фыркнул парень у окна. – Типа как “хочу ударить”?
– Да, – ответила я. – И типа как “хочу унизить”. Тоже.
Таймер тихо тикал.
Две минуты – вечность, когда тебе пятнадцать.
Когда время закончилось, я сказала:
– Откройте глаза. Кто почувствовал злость?
Несколько рук поднялось – неожиданно много. Подростки, если не давить, честнее взрослых.
– Кто – скуку?
Ещё больше рук. Смех.
– Кто – интерес?
Две девочки подняли руки, переглянулись и засмеялись, будто им неловко признаться.
Я посмотрела на Кирилла.
– А ты что почувствовал?
Он улыбнулся шире.
– Ничего.
– “Ничего” – это тоже чувство, – сказала я. – Чаще всего это либо усталость, либо защита. Выбирай.
Кирилл замер на секунду. Слишком коротко, чтобы класс заметил. Но я заметила: он не ожидал, что я скажу так.
– Защита от чего? – спросил он.
– От того, что может быть неприятно, – ответила я. – От того, что ты не хочешь показывать другим.
Класс притих.
Слишком личное.
Слишком точно.
Кирилл откинулся назад и сделал вид, что ему всё равно.
– Ну да, – протянул он. – Понятно. Сейчас вы нас всех раскусите.
– Мне не нужно никого “раскусывать”, – сказала я. – Мне нужно, чтобы вы не разносили друг друга в клочья. Потому что потом вы приходите домой, закрываете дверь, и всё это остаётся с вами.
На последней парте кто-то резко вздохнул – девочка в сером худи, которую я сначала даже не заметила. Вздохнула и тут же спрятала лицо в рукав, будто случайно.
Я поняла: зацепило.
Урок закончился не победой.
Но и не провалом.
Они вышли шумно, как вошли, только теперь в шуме было больше обсуждения, чем насмешки.
Кирилл задержался на секунду у двери.
– Марина Игоревна, – сказал он неожиданно вежливо. – А если человек реально бесит?
– Тогда ты можешь злиться, – ответила я. – И можешь выбирать, что с этой злостью делать.
– А вы выбираете? – спросил он и снова стал прежним, колким.
Я посмотрела на него прямо.
– Я учусь, – сказала я. – Как и вы.
Он хмыкнул и вышел.
Я осталась в кабинете и только тогда почувствовала, как у меня дрожат пальцы. Я сжала их в кулак и разжала – один раз, второй. Это было не от страха даже. От напряжения, которое я держала всё занятие, чтобы не сорваться на оправдания.
В коридоре уже звенел звонок на математику.
И вместе со звонком где-то рядом появилась тяжёлая, знакомая “температура” – присутствие Орлова.
Я вышла из кабинета и увидела его у своего кабинета – в двух шагах, будто он просто шёл мимо. В руках журнал, взгляд спокойный, холодный. Но сегодня он смотрел не насквозь. Он смотрел оценивающе, как будто сравнивал ожидания с реальностью.
– Выжившие есть? – спросил он тихо.
– Все, – ответила я. – Даже я.
Его рот едва заметно дёрнулся – почти улыбка, но он тут же спрятал её в привычную серьёзность.
– Волков был? – спросил он.
Вопрос прозвучал буднично, но я почувствовала: ему важно.
– Был, – сказала я.
– И?
Я подняла подбородок.
– И я не дала ему превратить занятие в цирк.
– Это вы так думаете, – холодно заметил Орлов.
Я сделала шаг ближе, так, чтобы ему пришлось чуть отступить или остаться на месте. Он остался.
– Я думаю, что вы привыкли видеть только провалы, – сказала я. – Потому что тогда мир проще.
Орлов посмотрел на меня чуть дольше, чем нужно для обычной колкости.
– Мир не проще, – сказал он. – Он честнее.
И ушёл в класс, даже не оглянувшись.
“Честнее”.
Я повторила слово про себя и вдруг поняла: он сказал это не мне. Он сказал это себе. Как оправдание.
После третьего урока ко мне в кабинет заглянула классная руководительница девятого “А” и устало выдохнула:
– Марина Игоревна, можно вас на минуту? Только… без протокола.
“Без протокола” в школе означает “сейчас будет настоящая правда”.
Мы сели, и она сказала:
– Волков опять сцепился с Захаровым. Ничего страшного, но… я хочу, чтобы вы с ним поговорили.
– Почему опять? – спросила я.
– Потому что Захаров слабее, – коротко ответила она. – А Кирилл это чувствует. И проверяет.
Я кивнула.
Внутри поднялась та самая холодная злость – не на Кирилла даже. На систему, где слабого можно “проверять” как предмет.
– Позовите его после уроков, – сказала я.
Кирилл пришёл с видом человека, которого ведут на допрос, но он делает одолжение.
– Ну? – спросил он, даже не присев.
– Сядь, – сказала я спокойно.
Он сел, но так, будто готов вскочить.
– Ты знаешь, зачем ты здесь?
– Потому что Захаров нажаловался.
– Нет, – ответила я. – Потому что ты выбираешь цель.
Кирилл прищурился.
– Он сам… странный.
– “Странный” – это не повод давить, – сказала я. – Скажи честно: тебе приятно, когда ты видишь, что ты сильнее?
Он усмехнулся.
– А вам приятно быть умной?
– Мне приятно быть честной, – ответила я. – С собой и с тобой. Давай так: ты можешь не любить Захарова. Но если ты ещё раз тронешь его – я пойду к директору.
Кирилл резко выпрямился.
– О, вот оно! – сказал он громче. – Пошли угрозы!
Я не повысила голос.
– Это не угроза. Это граница, – сказала я. – Разницу мы как раз и изучаем.
Он замолчал на секунду, потом бросил:
– А если я просто… шучу?
– Если после твоей “шутки” человеку хочется провалиться сквозь пол – это не шутка, – сказала я. – Это агрессия.
Кирилл отвёл взгляд. Впервые за всё время.
– Я не агрессивный, – буркнул он.
– Ты – быстрый, – сказала я. – Умный. И очень злой. И ты пока не знаешь, что с этой злостью делать, кроме как бросать её в других.
Он снова посмотрел на меня – уже без улыбки.
– А вы знаете?
Вопрос был почти тихим. Почти настоящим.
Я не стала делать вид, что я “всё знаю”.
– Я учусь, – сказала я. – И да, иногда я тоже выбираю плохие способы. Но я взрослый человек, и моя задача – не развалиться и не развалить других.
Кирилл сидел молча, и эта тишина была важнее любых правильных слов.
– У тебя дома кто-то орёт? – спросила я просто.
Он дёрнулся. Резко. Как от удара.
– С чего вы взяли?
– Потому что ты звучишь так, будто к крику привык, – ответила я. – И будто иначе тебя не слышат.
Кирилл сжал челюсть.
– Не ваше дело.
– Согласна, – сказала я. – Тогда моё дело – школа. И твоё поведение в ней. Договоримся?
Он молчал.
– Договоримся так, – продолжила я. – В следующий раз, когда тебя “накроет”, ты сделаешь одну вещь: остановишься на три секунды. Просто три. И задашь себе вопрос: “Я сейчас хочу решить проблему или унизить?”
Кирилл хмыкнул.
– Три секунды? Серьёзно?
– Серьёзно, – сказала я. – Иногда три секунды меняют жизнь. А иногда – просто не дают тебе сделать глупость.
Он посмотрел на дверь, потом снова на меня.
– А если я… не успею?
– Тогда придёшь и скажешь мне честно, что не успел, – ответила я. – И мы будем думать дальше.
Кирилл встал.
– Ладно, – сказал он. – Посмотрим.
Когда он вышел, я поймала себя на том, что мне хочется сесть на пол и выдохнуть в тишину. Но времени не было: в школе время принадлежит расписанию.
В этот же день, ближе к концу, я шла по коридору и увидела маленькую сцену, из-за которой весь мой день вдруг собрался в одно “зачем”.
Захаров стоял у шкафчиков, прижимая к груди рюкзак. Вокруг него крутились двое мальчишек, громко обсуждая “какие у него кроссовки” и “что он вообще делает в этой школе”. Обычная школьная жестокость – без кулаков, но с точной дозировкой боли.
И тут рядом остановился Кирилл.
Он посмотрел на них – спокойно, без демонстрации силы. Просто посмотрел так, как смотрят люди, которые не сомневаются в своём праве.
– Отстаньте, – сказал он.
– Чё? – один из мальчишек даже засмеялся. – Ты чё, защитник?
Кирилл пожал плечами.
– Мне просто шумно, – сказал он. – И тупо.
Слово “тупо” прозвучало не как оскорбление, а как приговор ситуации. Как будто он оценил задачу и списал её в мусор.
Мальчишки переглянулись и отошли, буркнув что-то себе под нос.
Захаров поднял глаза на Кирилла – испуганные, круглые.
Кирилл сделал вид, что ничего не происходит, открыл шкафчик и бросил:
– Не стой так. Иди.
Захаров кивнул и быстро ушёл.
Я стояла в двух шагах и чувствовала, как внутри меня поднимается горячая волна – не восторг даже. Облегчение. Микроскопическое доказательство того, что не всё зря.
Кирилл заметил меня, и на его лице тут же включилась привычная маска.
– Чё? – сказал он, словно заранее защищаясь. – Я просто… шумно было.
– Я видела, – сказала я. – Спасибо.
Он скривился, будто слово “спасибо” жгло.
– Не надо.
– Надо, – ответила я. – Потому что ты мог пройти мимо.
Кирилл развернулся и пошёл по коридору, ускоряя шаг.
Как будто убегал не от меня – от того, что сделал правильно.
И в этот момент я увидела Орлова.
Он стоял в конце коридора, у окна, и смотрел прямо на меня. Не на Кирилла. На меня. Как на причину. Как на факт, который не укладывается в его систему.
В его взгляде не было насмешки.
Только чистое, неподдельное удивление.
Я выдержала этот взгляд и не отвела глаза первой – не из гордости, а потому что вдруг поняла: вот оно. Невидимая точка, после которой всё начинает работать иначе.
Игра началась по‑настоящему.
Глава 4
Андрей
Удивление – чувство лишнее.
Оно мешает системе.
Оно не вписывается ни в расписание, ни в план, ни в привычную картину мира.
После того, как Волков отогнал пацанов от Захарова, я поймал себя на желании сделать вид, что ничего не видел.
Логично же: не видел – не обязан объяснять.
Не обязан думать.
Но мысль застряла, как заноза: не потому, что Волков вдруг стал хорошим. Он не стал. Такие не становятся “хорошими” за неделю.
А потому, что он сделал поступок без выгоды.
Скупо, грубо, как умеет.
И всё равно – поступок.
Я зашёл в класс, поставил журнал на стол и посмотрел на девятый “А”.
– Открыли тетради, – сказал я. – Тема – квадратные уравнения. Кто не помнит формулу – это ваши проблемы, не мои.
Класс отреагировал предсказуемо: пара лиц вздохнула, кто-то уронил голову на руки, кто-то вытащил телефон и спрятал его под партой.
Обычная жизнь. Нормальная.
Такая, в которой всё подчиняется правилам: спросил – ответили; не ответили – получили оценку; получили оценку – сделали выводы.
Математика хороша тем, что не требует веры.
Волков сидел на своём месте – ближе к центру, как и раньше. И делал вид, что ему плевать.
Но “плевать” у него сегодня было другим: без показной агрессии. Без театра.
– Волков, к доске, – сказал я.
Он поднял глаза медленно, как человек, которого невозможно удивить.
– Серьёзно? – протянул он.
– Серьёзно, – ответил я. – Ты же любишь быть в центре внимания. Давай честно отработаем.
Класс хихикнул.
Волков встал и пошёл к доске ленивой походкой, но без привычного “сейчас я устрою шоу”.
Он взял мел, написал уравнение криво, как нарочно, и оглянулся:
– Я не понял, а где тут… сердечки?
Кто-то прыснул.
Я не улыбнулся.
– Сердечки у психолога, – сказал я ровно. – У меня – ответ. Решай.
Волков посмотрел на доску. Секунда, другая.
И – сделал то, чего я не ожидал: начал решать. Без издёвки. Без демонстративных пауз.
Ошибся на втором шаге, остановился, поправил.
Класс притих – не потому, что они вдруг полюбили математику, а потому, что их лидер не играет.
Я поймал себя на желании найти объяснение. Немедленно.
Скорее.
Пока не стало неприятно.
“Он просто выспался”.
“Ему дома накрутили”.
“Его кто-то напугал”.
“Он хочет выглядеть взрослым”.
Любое объяснение, кроме одного.
Кроме того, что кто-то мог на него повлиять без угроз и давления.
– Дальше, – сказал я, когда он остановился.
– Да знаю я, – буркнул он и дописал.
Решение было не идеально, но рабочее.
Я кивнул.
– Садись. Оценку потом.
Он вернулся на место.
И я заметил, что Захаров – тот самый тихий, которого обычно давят взглядом, – сидит чуть ровнее.
Не счастливый. Не спокойный.
Но не сжатый в комок.
Мел в руке вдруг стал раздражать.
Я положил его на полку слишком резко.
– Продолжаем, – сказал я классу. – Кто следующий?
Урок пошёл.
Я делал свою работу: спрашивал, объяснял, резал по ошибкам.
Они отвечали, ошибались, злились, делали вид, что им всё равно.
И всё же в воздухе стояло что-то новое, едва ощутимое – как в комнате после того, как кто-то открыл окно.
Свежесть не делает тебя счастливее. Она просто не даёт задохнуться.
На перемене Волков прошёл мимо меня к двери и бросил, не глядя:
– Нормальная тема. Эти… квадратные.
Он сказал это так, будто признаться в интересе – почти стыдно.
Я мог бы ответить колкостью.
Мог бы поставить на место.
Мог бы сделать вид, что мне всё равно.
Вместо этого я коротко кивнул:
– Учись, Волков. Жизнь квадратных не любит.
Он хмыкнул и ушёл.
И тут мне стало по-настоящему некомфортно.
Потому что я почувствовал – не радость даже, нет.
Удовлетворение.
Какое-то извращённое, профессиональное: “работает”.
Не только моя система. Чья-то ещё.
Я вышел из класса и пошёл в учительскую, надеясь, что рутина вылечит лишние мысли.
В учительской, как всегда, пахло кофе, бумагой и чужим раздражением.
Кто-то жаловался на расписание, кто-то обсуждал родителей, кто-то искал, где распечатать контрольные.
Школа – это не храм знаний. Это коммунальная квартира взрослых людей, у которых нет права уставать.
Я взял кружку, налил себе чёрный кофе из автомата. Вкус был как у школьных реформ: горько и без обещаний.
И увидел Соловьёву.
Она сидела за столом у окна, согнувшись над какими-то листами. Волосы собраны небрежно, на рукаве – след от маркера.
Не идеалистка с плакатом.
Не “психологиня”, которая сейчас всех спасёт.
Просто человек, который работает.
Рядом с ней стояла Светлова – Елена Дмитриевна – и что-то говорила тихо, но с выражением.
Соловьёва слушала и иногда кивала, делая пометки.
Не спорила. Не театральничала.
Делала работу, которую никто не видит, пока она не провалится.
В моей голове сама собой всплыла старая привычка: обесценить.
“Бумажки”.
“Методички”.
“Психологические игры”.
Но обесценивать было сложнее, когда видишь усталость на лице человека, который не притворяется.
Когда видишь, как он держит себя в руках не на педсовете, а в обычный день, на четвёртом уроке, когда кофе уже не спасает.
Соловьёва подняла глаза и заметила меня.
Не улыбнулась.
Не вызвала на дуэль.
Просто посмотрела – спокойно, ровно, как будто её внутренний “контракт” работает и с взрослыми.
Я отвёл взгляд первым, и это разозлило.
Чтобы вернуть контроль, я сделал то, что умею: подошёл и включил голос, который превращает разговор в задачу.
– Волков, – сказал я, как бы между делом. – У вас с ним что?
Соловьёва не сразу поняла, что я к ней. Потом кивнула:
– Разговоры.
– Разговоры, – повторил я. – Это вы так называете вмешательство?
Она сложила бумаги в стопку. Аккуратно. Слишком аккуратно для человека, которого можно легко вывести из себя.
– Я так называю работу, – сказала она. – Пока без чудес.
– Чудеса у нас не оплачиваются, – сухо заметил я.
Она приподняла бровь.
– Значит, я делаю всё правильно.
Елена Дмитриевна кашлянула, будто ей стало неловко находиться рядом с нами.
– Андрей Викторович, – сказала она осторожно. – Вы же видели в коридоре…
Я посмотрел на неё.
Взглядом можно выключить разговор не хуже приказа.
– Я видел, – ответил я.
Соловьёва не стала пользоваться паузой. Не стала давить.
Это тоже раздражало: она не пыталась победить. Она просто стояла на своём.
– Волков сегодня на уроке решал, – сказал я, и слова прозвучали почти как обвинение.
Соловьёва на секунду растерялась – совсем чуть-чуть, как человек, который не ждёт похвалы.
Потом её лицо стало серьёзным.
– Хорошо, – сказала она. – Значит, он смог остановиться.
– Остановиться от чего? – спросил я.
Она посмотрела на меня внимательно.
– От желания быть главным любой ценой, – ответила она. – От желания унижать, чтобы не унизили его.
Фраза попала куда-то глубже, чем я хотел.
Потому что я сам много лет жил по похожей логике: держать дистанцию, держать контроль, нападать первым – не потому, что ты злой, а потому что так безопаснее.
Я сделал глоток кофе. Горло обожгло.
– Вы романтизируете, – сказал я.
– Нет, – спокойно ответила она. – Я фиксирую механизм.
Она говорила как профессионал.
Без угроз. Без “вы ничего не понимаете”.
И это было хуже любой атаки. Потому что я не мог отбиться сарказмом – он выглядел бы детским.
Елена Дмитриевна, кажется, почувствовала, что воздух сгущается, и поспешила уйти под благовидным предлогом:
– Я… проверю тетради, – сказала она и исчезла.
Мы остались вдвоём в учительской, где вокруг шумели чужие разговоры, но между нами вдруг образовалась тишина – плотная, личная.
– Вам нравится меня бесить? – спросил я.
Соловьёва посмотрела на меня так, будто оценивала, шучу ли я.
– Мне не нравится, – сказала она честно. – Но мне нравится не молчать.
Я усмехнулся.
– Это опасное качество для “Престижа”.
– Я уже заметила, – ответила она и снова взяла ручку.
На этом разговор мог закончиться.
И должен был.
Потому что всё лишнее – риск.
Потому что я не беру на себя лишние риски.
Но я почему-то задержался.
– Почему вы сюда пришли? – спросил я. – В такую школу.
Соловьёва замерла.
Потом медленно положила ручку.
– Потому что здесь есть шанс сделать системно, – сказала она. – Если получится здесь – получится везде.
– Наивно, – сказал я машинально.
Она не вспыхнула, как на первой встрече.
Только чуть устало улыбнулась.
– Возможно, – ответила она. – Но это моя работа. Я умею её делать. И я не собираюсь превращаться в удобного человека, чтобы всем было спокойнее.
Эта фраза почему-то ударила сильнее всего.
“Удобного человека”.
Я вспомнил, как удобно было той женщине из прошлого говорить правильные слова, пока ей было нужно.
Как удобно было мне верить, что “искренность” – это гарантия.
Как неудобно стало потом жить.
Я поставил кружку на стол чуть громче, чем требовалось.
– У вас уроки, – сказал я сухо. – Не опаздывайте.
И ушёл, разозлившись на себя за то, что вообще спросил.
День тащился тяжело, как конец четверти, хотя учебный год только начался.
После уроков я проверял тетради, писал замечания, делал вид, что живу в системе, где всё объясняется логикой.
Вечером в коридорах стало тихо.
Школа пустела медленно: охранник закрывал двери, уборщица шуршала пакетом, где-то хлопнула форточка.
Я вышел на улицу, вдохнул воздух – влажный, московский, с запахом асфальта и первых холодов.
И увидел её у остановки.
Соловьёва стояла с сумкой на плече, в лёгком пальто, которое уже не спасало от ветра.
Она смотрела в телефон, но я видел по осанке: она не отдыхает, она держится.
Как будто весь день носила на себе чужие эмоции и теперь пытается не уронить свои.
Я мог пройти мимо.
Должен был.
Но шаги сами повернули в её сторону.
Импульс – мерзкая штука. Как у подростков.