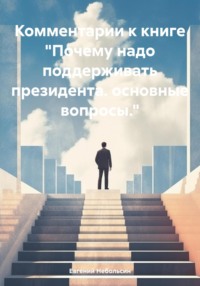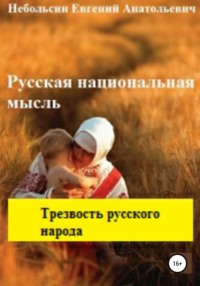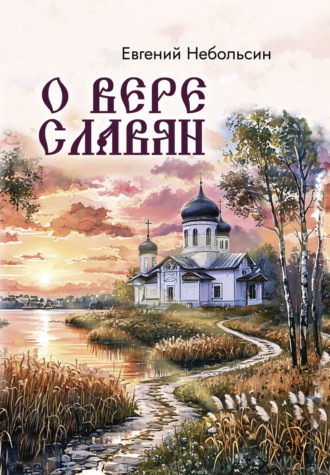
Полная версия
О вере славян

Евгений Небольсин
О вере славян

© Евгений Небольсин, 2025
© Интернациональный Союз писателей, 2025
Протоиерей Иоанн Меендорф в своём «Введении в святоотеческое богословие» (Мн.: Лучи Софии, 2001, с. 155) частично раскрывает главную мысль данной книги: «Учение Василия Великого об устройстве мира (космология) излагается в его комментариях к первой главе книги Бытия ("Шестоднев"). Эти комментарии представляют собой блестящий пример того, как умный и образованный богослов использовал современные ему достижения познания для защиты проповеди христианства. <…> Он прекрасно понимал, что нет никакого конфликта между научной информацией и библейским откровением (конфликт искусственно нагнетается в наше время, ибо Библия не является (не претендует являться) источником научной информации».
Если духоносные Отцы Церкви увидят в этих работах ересь, то пусть внесут нужные исправления и приведут к должному. Работа над этой темой далека от завершения, но приходится публиковать то, что есть, ибо всякая «ложка дорога к обеду».
Без Истины жизни нет. Истину лучше всего узнать от праведного старца и руководствоваться его наставлениями. В противном случае Истина рождается в спорах, в кровавых в том же числе. Либо то, либо то, чего-то третьего нет. Незнание Истины и её законов от ответственности не освобождает. Представьте себе общество начала двадцатого века. Старец поучает детей, собравшихся вокруг него. И вдруг приходит некий, который показывает чудеса электричества, термодинамики. Старец ничего ему не может противопоставить, кроме требования послушания у старших, опытных духовников. Эта книга призвана ликвидировать этот пробел и вернуть детей к своим родителям – такая поддержка действующей власти и президенту.
Перед вами образец того, как можно провести исследования родной старины для тех народов, которые проживают на территории нашей необъятной Родины. Надо людям каждой национальности возродить тот путь к счастью, который естественным образом сложился как уникальный вид аскезы (уникально сформированный способ жизни во Царстве Небесном уже при земном бытии) на протяжении многих времён, и при этом оставаться в пределах учения мировой религиозной концепции. Поэтому поступаю так, как поступали наши предки былой Руси. Русские всегда переводили Слово Истины на родной язык этих людей, ибо русский ставил себе целью не порабощение, а спасение души каждой личности. Поддержим авторитет наших старейшин.
Следует сделать важное замечание о том, что с приходом христианства разрушения древних устоев славянской веры произойти не могло, ибо веру поменять в народе невозможно. Можно её только захламить или, наоборот, очистить. А так как христианство прочно закрепилось и даже преумножилось, то сей факт свидетельствует только об одном: имело место быть очищение, то есть комфортное для разума обобщение всякого верования и возможность для любящего сердца Духом Святым принять мир таким, каков он есть. Появились новые формулировки хорошо забытого старого. Только и всего.
В древней вере славян каждое слово было именем, которое как-то сопрягалось с остальной структурой мировосприятия. То есть, подчёркивая какой-то оттенок Творца, каждое слово имело и хранило родство с богословским направлением. Вне согласия с остальным телом структуры веры никакое слово возникнуть не может и не могло. А так как оное в структуре миропонимания, то его нельзя было менять на иностранное, ибо этой инородностью ломается в умах картина мира. Из-за этого рушилось здание понимания схематорики спасения и представлений о Боге, а также шло отчуждение научного анализа от религии.
Да, указательные знаки верного пути должны быть только на родном языке, или нет смысла их ставить. А с другой стороны, человек в молитвах общается с Персоной, с Творцом. Нес природой Его, а с Личностью Всевышнего, для души коей естественны радость, скорби, любовь, терзания. Следовательно, в момент единения с Богом всякое осмысление должно исчезнуть в небытие, ибо всё свершилось. Да, очень важно знать о том, где Бог и как к Нему идти, но нельзя путать «дорожный указатель направления» с Ним Самим. Системность структуры мировосприятия, какой бы оная сверхгениально красивой ни была, личностью не является. А потому не имеет значения, на каком языке произносится молитва, но лишь бы оная была услышана. То есть иностранное слово перестаёт быть инородным только в этом случае, и только в этом случае оное живительно сказывается на душе человека, ибо не напоминает о мире через связь со структурой.
Итак, одно дополняет другое – древняя вера славян ведёт к Богу, а христианство – образ бытия в Боге. Данный момент актуален во все времена бытия человечества, но почему-то его игнорируют, давая приоритеты то тому, то этому. Конечно, стихийным образом системность веры в прежнем, самом древнем, варианте постоянно восстанавливается, но это уже новые формы на новых понятийных языковых системах. Надо только быть готовым к этому и уметь прогнозировать дальнейшее течение мысли. Об этом в этой книге тоже сказано.
Вступление
Бог один. А потому, взирая на Него, радостью становимся одним целым, и только в этом случае «кольчугой начинает звенеть русская речь».
Необходимо адаптировать современные самые сложные научные высказывания в богословии, а именно в доступной даже для простолюдинов простоте изложения. Ведь в простоте мир предстаёт в единстве, в коем частный случай данной узкой специализации анализа – только лишь ничтожно малая составляющая единого целого. Можно видеть то, кок оная гармонирует с единым целым бытия. А с другой стороны, адаптировать сложный научный понятийный язык анализа в богословии важно и для самого богословия. Ведь очень часто духовники сгущают краски для лучшего восприятия проповеди о Боге, чем также в какой-то ситуации учение в данной трактовке оказывается крайностью. Одно без другого – это как голова без тела. Нет трезвости мышления в богословии без фактического материала науки. И, наоборот, нет трезвого мышления в анализе научных фактов без богословия. Неполное учение становится покушением на убийство целого народа. Если говорить иначе, то надо соединить Вершину вершин с её подножием в основании. Ибо у Вершины вершин её подножие имеет также значимость полноты и цельности. Это единство двух крайних составляющих и есть полнота радости жизни – единство контрастов.
Жизнь – это реалия Царства Небесного, в которой надо научиться жить всем и передать сие следующим поколениям. Этот труд – утверждение порядка в стране – и служит как помощь действующему президенту для укрепления власти в стране. Делает наш лик притягательным для мирового сообщества.
Следует сказать о том, что в будущем будет много археологических открытий. Но, какими бы революционными они ни были, оные не должны отходить от жизненной линии, да и как-то опровергать изложенное здесь, в данной брошюре, не смогут. Они будут нанизаны на этот основополагающий смысл, как-то подчеркнут его новые контрасты, дополнят фактами, усилят восприятие и так далее. Изначально каждый учёный должен об этом помнить, и давать себе отчёт, и вести свои суждения в пределах этого русла.
Перед вами научное эссе. Темы, поднятые в данной работе, были актуальны всегда, и в самом начале зарождения цивилизации, и сегодня, и будут иметь значение в будущем вечно. Для начала сделаем самые общие вводные установки, отталкиваясь от коих мы дадим определения о полноте радости жизни.
Бог сотворил мир от переизбытка любви. Он возжелал, чтобы чуточку больше было радости. Нет никакого иного смысла у этого бытия, но только пусть всё будет хорошо и счастливо. Сообразность данному акту имеет абсолютно всё во Вселенной. Радостью сотворён мир, радостью же всё в нём имеет бытие, радостью стоит и утверждается.
В этой книге примеры того, как исполнен этот Закон. И сразу хочу сказать важное о том, что в своём богословии следую традициям древних, ясно говорящих. Это язык не образов, кои требуют принимать постулаты на веру, а понятийная речь схем взаимодействия, принципов работы и устроения Вселенной. Это тоже важно. Словом, это тот язык, которым позднее пользовались русские иконописцы для символичного изложения священных текстов.
Если человек счастлив, то хочет жить вечно, даже если он весь в увечьях и в условиях самого сурового климата.
А вот с душевной травмой не может протянуть и часа. Исходя из этого, человечество стремится к высотам Вершины, выбирает трудные дороги. Лишь бы душа смотрела на мир с высоты. Радость души толкает на любые подвиги.
Данный труд повествует о путях богословия самых древних людей. Хоть и неразборчиво, но всё же виден путь сближения человечества с Центром мира, коим является Благодать Духа Святого. Каждый народ идёт к этому своей уникальной дорогой. Благодать Духа Святого – это то, обладая чем, личность исполняет все законы бытия радостью Царства Небесного.
Исходя из сказанного, начнём суждения. Счастье и радость – это природа человека в чистом виде, а потому только счастье в Боге является естественной скрепой единства людей, единственным активатором подвижничества любой тяжести и всецельной полноты самоотдачи в жертвенности. Если люди счастливы в Боге, то легко терпят самую беспощадную деспотию и даже её не замечают. Если народ счастлив, то даже самая несовершенная форма хозяйствования или самая несправедливая система распределения ценностей и даже самая несовершенная законодательная база не помешают государственной безопасности крепко стоять на ногах. Народ даже не заметит дискомфорта, причиняемого любым стеснением свобод, ибо всё остаётся в границах утверждения живого. И наоборот: если нет в государстве счастья, то самая лояльная система становится самой зловещей деспотией, диктатурой, культом личности. Если нет радости, то никакие репрессии, никакие самые совершенные системы надзора не смогут удержать мир в стране. Жизнь всегда непредсказуема, а потому будут всегда те, кому нужен карантин для восстановления здоровья, то есть счастья. Радость и деспотия всегда идут вместе. В присутствии радости сил на удержание порядка уходит бесконечно мало и люди сами разбираются в своих делах полюбовно. А если радости нет, то репрессивный аппарат поглотит всё и вся, а затем иссякнет. То есть мир живёт радостью, деспотия коей нужна по необходимости. В золотой середине между этими озвученными крайностями деспотии места почти нет. Так жили русские. Всё новое – это всегда хорошо забытое старое, а потому не будем изобретать велосипед, а вспомним свою национальную древность.
Древние считали, что мир вокруг нас – это Царство Небесное, в реалии коего надо вписаться и своей природой радости быть частью Его, Бога, Источника всякой радости и счастья на Земле. Вот тут возникает очень важный для нас вопрос: откуда такие мысли? Чтобы так думать, необходимы основания. Причём речь идёт не о логически верных суждениях, а о реальном опыте жизни в высшей экзальтации счастья. И ведь человек не имел достижений научного прогресса, послабляющего тяготы суровой жизни в жесточайшем, казалось бы, естественном отборе. Более того, что мы видим? Мы видим только внешнее проявление внутреннего мира. Мы видим процесс высшей экзальтации переживаемого счастья с дальнейшими попытками усиления оного умышленным нагнетанием тягот бытия: люди негой телесности не озабочены, даже наоборот, строят памятники древней цивилизации, кои отличаются грандиозностью масштабов, величественны даже по нашим современным меркам. А ведь это всё – ручной труд. Древний мир (в самой высокой интенсивности физических нагрузок) противопоставляет себя нашему времени (изнеженности жизни). Попробуем разобраться в этих вопросах на страницах данной книги.
В самом начале примем как аксиому, что природа человека – радость в самом чистом виде. Таким образом, перед нами встаёт важное определение мира. Кроме счастья, нет ничего. В этой системе многогранный мир представлен отсутствием трагедий. Представьте, что вы бросили камень счастья. И вот он летит и на своём пути не встречает никаких препятствий, всё – пустота. В таком образе предстаёт мир, если мы позиционируем себя в его Центре абсолютного счастья, согласно вере древних. Повторюсь, что в данной системе для счастья нет никаких препятствий и всё в этом смысле есть пустота, отсутствие горя.
Мир представлен, с одной стороны, вариацией пустоты, а с другой – множественностью бесконечности. С одной стороны, горя и страданий нет, а с другой стороны, тот же самый мир, согласно мнению людей, – исчадие ада, в котором человек создаёт условия, в коих тирания психики сведена к минимуму (посредством научного прогресса).
Человек – это ещё и психика, для которой счастьем является только покой. То есть для психики нет бесконечного многоцветия контрастов, но только одно положение – покой. Психика травмируется отсутствием покоя. Иными словами, перед нами стоит задача представить мир в состоянии покоя психики, то есть абсолютной телесно распознаваемой пустоты.
То, что мир бесконечно многогранный, мы видим телесными очами. Также опытным путём осознали и то, что мир полон зла. Но как же тогда оный был создан для счастья и как носитель счастья? На самом деле мир остался тем, чем он был всегда. Изменились мы. Итак, перед нами стоит задача – представить мир в том виде, в каком его представляли древние северяне, благодаря чему жизнь счастьем и радостью торжествовала над смертью даже в суровых условиях Севера.
Из того, что личность – счастье в самом чистом виде, следует простой вывод: необходимо очищать от всего инородного. Можно сказать иначе эту мысль, во множестве вариаций представив суть вещей. Сие есть пришедшая из славянской древности главная идея всех мировых религий. Да и современный научный анализ не изменил этому принципу и, несмотря на свой атеизм, следует теми же тропами.
Итак, этот мир вокруг нас имеет бытие, так как сообразен радости как в общем плане, так и во множестве своих частностей. Можно сказать, что каждая из вариаций – специфически звучащее имя счастья. Нам остаётся только привести примеры таких вариаций, то есть сказать это слово – «счастье» – на языках из разных понятийных систем. Это нужно сделать, ибо тогда перед нашим взором более явственно предстанут очертания конкретики определения Царства Небесного.
Исходя из сказанного, перед нами двойственность. Если человек счастлив естественным единством с Богом, то мир предстаёт для него совершенным, то есть его как носителя зла не существует. А если единения с Богом нет, то счастью людей постоянно что-то мешает, появляется мотивация движения к лучшему (сберечь то, что есть). А вместе с ней – и всё сопутствующее: борьба за выживание, естественный отбор и эволюция.
Теперь для ясности понимания главной мысли немного из жизни с художественным вымыслом.
В моей молодости был такой случай. В нашем городе часто проходят выставки местных мастеров живописи. В одной из них принимал участие мой давний знакомый. Когда я узнал об этом, мне стало интересно, и потому решил её посетить в ближайшие дни. Картин было много, но работы моего знакомого нигде не было. Тогда связался с ним по телефону, и вот мы вместе стоим перед его широким полотном. Почему-то картина висела вверх ногами, и называлась оная тоже иначе: «Мужчина перелезает через забор, потому что он забыл ключи дома». Организаторы художественной выставки потеряли сопроводительные документы, а потому на свой страх и риск проявили инициативу. На самом деле перед нами какой-то человек и вроде бы куда-то лезет. Так бывает. Рисовал одно, а получилось другое. И надо сказать, хорошо у него вышло. Многие специалисты уже успели заметить выдающийся талант начинающего художника и даже фотографировались на фоне этой самой большой картины выставочного зала. Не только потому, что художник был евреем и те, кто восхищался его шедевром и делал записи в книге выставки, тоже были евреями. Нет совсем. Заметен был также глубокий смысл реалистично изображённого сюжета и в том, что, чтобы люди не уходили далеко в своих рассуждениях и не было разнобоя, организаторы дали картине такое подробное поясняющее название. На самом-то деле великий пейзажист пытался донести публике красоту Вселенной, созерцая спокойное море, открывающееся между двумя скалами, парусник, чайки и восходящее солнце. Много красок и света. Если бы художник взял простой карандаш и на чистом листе всё это изобразил схематично, то не возникло бы такой путаницы, всё было бы ясно и понятно. Но тогда картина потеряла бы свою художественную ценность и привлекательность.
Просто природа прекрасного всегда имеет множество граней, и если мы хотим подчеркнуть какую-то одну из них, то неизбежно все остальные уходят на второй план и выпадают из поля зрения. Когда мы хотим выразить какую-то грань прекрасного, то берём один набор инструментов. А для выражения иной стороны той же красоты – другой, соответственно. Но все формы выражения красоты не противоречат друг другу, не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Поэтому мир надо принимать таким, каков он есть, но в то же время, чтобы понимать его, жизненно важно искать ту позицию созерцания, стоя на которой все эти противоречия становятся взаимным дополнением. Этот полюс безальтернативный, он один и единственный. Все другие точки созерцания являют взаимоисключающие противоречия. Давайте же дадим определения этой точке созерцания Вселенной.
Есть мысль у древних греков, что за множеством картин не видно общего вида. Если вы ходите по лесу и собираете грибы, то перед вашим взором много деревьев, травы, какие-то овраги, ручьи и так далее. Но за всем этим не видно того, что открыто человеку с высоты птичьего полёта. Но с высоты не разглядеть грибов, прячущихся в траве и валежнике. Другой пример. Представим себе, что мы стоим вплотную к полотну великого русского живописца Айвазовского. Вблизи перед нашим взором предстаёт множество разноцветных высохших бугорков масляной краски. За этим соцветием увидеть одну единую структуру не представляется возможным. Хотя, конечно, возникают какие-то ассоциации в нашем воображении. Как это обычно бывает, мы переворачиваем мир вверх дном и потом в собственный дом лезем через забор. Но это воображение остаётся далеко от истины, ибо нужно отойти от картины на некоторое расстояние. Только в этом случае перед нами явственно раскрывается замысел гениального художника.
Почему важно дистанцироваться? Дело всё в том, что по грехопадению человек получил воспаление, кое отразилось на возможностях познавать мир. Мы теперь имеем сильное и даже почти абсолютное ограничение сектора обзора. То есть видим не всё сразу, как это было во Царстве Божьем, а только малую область, что стоит перед нашим взором. Мы зрим мир вокруг нас через собственное ограниченное первородным грехом ничтожество «замочной скважины» закрытой двери входа во Царство Небесное. А потому, чтобы видеть всё целиком в этой картине мира, надо занять такую точку обозрения, созерцая через кою в поле зрения ограниченной возможностью физиологии попадает весь рисунок бытия. То есть необходимо стоять на расстоянии, как можно дальше, чтобы видеть в малом великое, ибо издали великое умещается в узкий сектор способности восприятия.
Божественная высота имеет также иное имя – оная есть ещё и Начало начал. Именно поэтому все математические теории человеком позиционируются в нулевой отметке отсчёта начала всего, а не где-то в бесконечности координат. Начало начал хорошо умещается в нашем секторе мировосприятия. Через Начало начал видны все его прообразы в развитии. Для выражения Истины такой понятийный язык удобоприемлемый.
Итак, каждый в себе несёт эту высоту. При этом следует сказать о том, что у каждого нет своей индивидуальной вершины, ибо оная на всех одна общая и единственная. Индивидуальным остаётся только путь восхождения на неё. Покорившим её открывается один и тот же вид как в самом начале начал, так и ныне, и так будет всегда. Чтобы понимать понятийный язык философа, богослова, автора книги, необходимо уже стоять на этой Вершине. Почему это важно? Дело в том, что многие слова имеют несколько значений, из-за чего возникает самая тяжёлая задача для тех, кто делает перевод текста на свой родной язык или пытается трактовать смысл высказывания. Текст возник как свидетельство о Боге, но если личность не с Творцом, то вездесущей двусмысленностью слов человек может уйти далеко от Него. То есть, чтобы верно понимать автора священных текстов, надо уже быть на этой высоте, единой для всего и вся высоте. Ведь автор, когда излагал свои мысли, был в близости с Творцом, стоя именно на этой всеобщей Вершине вершин. Благодаря этому мысль сама по себе сообразуется с естественным для мира порядком вещей. Именно это предопределило столь высокую живучесть и актуальность учения на протяжении стольких времён. Итак, чтобы не извратить генеральной идеи мыслителя и, может быть, даже дополнить то, что утрачено в его текстах, или уже адаптированно к сложившейся ситуации довести его мысль до полноты верного понимания сути бытия, необходимо покорить Вершину вершин. Точно так же дело обстоит и с текстами древнего славянского наследия. Надо быть тем древним русским человеком, при этом стоя на Вершине вершин, чтобы влезть в эту древнюю рубаху религиозного оформления единства с Богом.
Да, надо сказать, в этой национальной одежде уже много дыр, но время не властно над живым телом народа, над его Священной Высотой. Поэтому, когда примеряешь на себя ветхие рубахи, легко реконструировать их. Ведь становится ясным то, какими и где должны быть недостающие фрагменты в этих доспехах древнего воина. Иными словами, надо быть на Вершине вершин, чтобы понять то, что русская речь в самом чистом её виде – это совокупность священных текстов мощной, единой, целостной религиозной концепции, сообразной с естественным порядком вещей. Повторюсь ещё раз, что надо быть на этой единой для всего мира высоте, ведь с неё каждому открывается один и тот же вид на окружающую Вселенную, как в те далёкие времена, так и ныне, так и во веки веков. Остаётся только самим подняться до высоты и дошедшую до нас веру, представленную нам в виде фрагментарности изложения Истины, восстановить в единую религиозную доктрину. Это оказалось актуальным в наши дни.
Предварительно ответим теперь на вопрос, который также важен для определения точки созерцания. Что есть красота? Представьте себе, что вы идёте по дороге и встречаете своего давнего друга детства. С ним связаны лучшие годы вашей жизни. Вы не виделись много лет и теперь не можете наговориться от радости встречи. А теперь другой случай. Вы идёте по этой же дороге и видите не своего давнего приятеля, а его тело или даже часть его тела. Не дай Бог нам никому такой встречи, ибо нас охватывает ужас. Теперь мы не пожимаем этой ладони и нет в нашей душе радости, а горе терзает нашу душу. То есть мы радуемся не телу и не какой-то части его, а тому, что заключено в этом теле, – мы рады только живой душе, живой личности. Такова же природа познания всего и вся – нас в ней радует только личность и ничего более. Опосредованно событий и природных явлений перед нами предстаёт Личность. Если мы смотрим на мир (на какое-то явление или событие) и узнаём в нём самого себя, своё личностное отражение, то мы счастливы. Всё исчезает, но остаётся только специфично явленный лик. (Позже именно это увидим в природе молитвы.)
Хорошо сие показано в Священном Писании. Бог творит Адама, и Адам произносит речь Богу. Потом Адам говорит слова Еве, жене своей. Перед нами межличностные отношения первого Семейства, и ничего, кроме этого и вне межличностных семейных отношений, нет в бытии. (Бесконечные прообразы сего мы увидим во всей Вселенной.) Есть только личности, общающиеся между собой опосредованно множественных понятийных языковых систем. То есть всё остальное вокруг нас имеет бытие в пределах межличностных отношений и средств такого общения, общих точек соприкосновения с Творцом. В Писании сказано также о том, что Адам даёт имена всему живому, ибо видел в них самого себя – видел личностные характерные черты. Ведь Сам Творец видит в человеке Самого Себя и входит в отношения с человеком, как с Самим Собой. В этом Его власть над человеком. Хорошо сие понимали древние первобытные люди, о чём свидетельствует нам археология, изучающая множественные памятники тех времён. К примеру, меня поразил один из рисунков наскальной живописи. Изображён мамонт, в голове коего находится маленький человечек. Древний художник часто наблюдал за поведением этих величественных животных, и он был поражён тем, что в их отношениях между собой много человечного. Древний видел, как они между собой ладят, как ухаживают друг за другом, как совместно заботятся о детёнышах, как спешат друг к другу на помощь, как скорбят об утратах. Он смотрел на них и видел в них самого себя – личность. И потому думал, что в голове их сидит маленький человечек. Видение самого себя, то есть видеть личность даже в животном, – это значит любить всё то, в чём человек узнал себя. Он ко всему живому относится как к самому себе, на равных, как к личности – только любовью, а потому всё живое отвечает человеку взаимностью. Вселенная откликается любовью к нам. Это удостоило человека быть исполином на Земле. Хотя так тоже нельзя говорить, ибо исполином он уже пришёл на Землю.