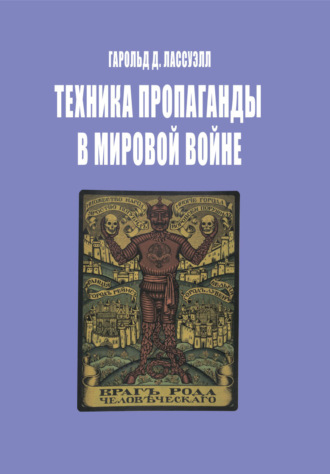
Полная версия
Техника пропаганды в мировой войне
В теории «волшебной пули» проявляется сильное влияние психоаналитического подхода. Лассуэлл исходит из принципиального сходства базовых инстинктов индивидов, которые реагируют более-менее сходным образом на пропагандистское воздействие[30]. Причем именно в экстремальных обстоятельствах, в частности, в условиях войны, эти инстинкты, прежде латентные, начинают пробуждаться. Соответственно, задача военной (в другом случае – революционной) пропаганды состоит в том, чтобы ускорить выход этих инстинктов наружу, создать благоприятный эмоционально-психологический фон для восприятия достаточно упрощенных идей и лозунгов.
Слабость аргументации Лассуэлла состоит в том, что в «Технике пропаганды…» он объясняет феномены, относящиеся в конечном счете к сознанию и поведению индивидов, событиями макроуровня, знаменовавшими собой изменения хода мировой войны. Кроме того, в своей первой книге он – отнюдь не без оснований – акцентирует тенденцию к атомизации социального мира и качественному усложнению задачи управления таким миром. Пропаганда в этих условиях становится новым инструментом координации и объединения социума, она, по сути, позволяет заполнить тот вакуум, в котором оказывается индивид в условиях ослабления социальных связей. Вместе с тем внимательный читатель «Техники пропаганды…» увидит, что Лассуэлл избегает редукционистского соблазна, он прекрасно отдает себе отчет в том, что общество состоит из разных групп и слоев, чьи интересы далеко не одинаковы. Лассуэлл показывает, что степень эффективности пропаганды в немалой степени определяется способностью учесть эти особенности и донести до представителей специфических групп именно то, что может повлиять на их поведение.
Тем не менее представленная в первой книге Лассуэлла схема коммуникативного взаимодействия является однонаправленной. Спустя немногим более 20 лет после появления «Техники пропаганды…» Лассуэлл публикует статью, в которой предлагает доходчивую формулу:
«Самый удобный способ описания процесса коммуникации состоит в ответе на следующие вопросы:
1) кто сообщает?
2) что именно?
3) по каким каналам?
4) кому?
5) с каким эффектом?»[31]
Эта формула, являющаяся основой классической модели коммуникации, одновременно представляет собой и сжатую исследовательскую программу. Первый вопрос фокусирует внимание на коммуникаторе, т. е. источнике коммуникативного акта. Второй вопрос ориентирует на рассмотрение содержания передаваемых сообщений. Третий – привлекает внимание к средствам и каналам трансляции сообщений. Четвертый вопрос относится к анализу особенностей аудитории, адекватный учет которых предопределяет успех коммуникативного акта. Финальный вопрос дополняет предыдущий с точки зрения оценки эффективности коммуникации.
Определение основных составляющих коммуникативного процесса и рамок его анализа позволило Лассуэллу выявить наиболее важные управленческие аспекты массовой коммуникации. Во-первых, это возможность наблюдения за динамическими процессами в окружающей социум среде, оценка потенциала их влияния на систему ценностей общества в целом или значимых социальных групп. Во-вторых, выявление реакций социальных групп на средовые воздействия. Наконец, в-третьих, массовая коммуникация способствует поддержанию целостности и сплоченности общества, способствуя передаче социального опыта от поколения к поколению.
Хотя уже в конце жизни Лассуэлл внес в формулу коммуникации ряд существенных уточнений, ее слабым местом, как и слабым местом других одноканальных моделей коммуникации (в частности, модели Шэннона-Уивера), является отсутствие обратной связи между коммуникатором и конечной аудиторией. Между тем обратным воздействием аудитории на те же массмедиа можно пренебречь далеко не во всех ситуациях.
Эти недостатки классической модели коммуникации стремился преодолеть П. Лазарсфельд, с которым Лассуэлл сотрудничал в годы Второй мировой войны. Двухступенчатая модель коммуникации Лазарсфельда исходит из предпосылки, что массовая коммуникация не оказывает прямого воздействия на индивида, но опосредуется микрогруппой, причем ключевую роль в коммуникативном процессе играют «лидеры общественного мнения» внутри микрогруппы, тем или иным образом интерпретирующие медийную информацию[32].
Вернемся к «Технике пропаганды…». Первая книга Лассуэлла не очень-то укладывается в жесткие тематические или дисциплинарные форматы. Ее читатель с первых же страниц начинает осознавать, что предмет книги – совсем не только техника, не только пропаганда и даже не только мировая война. Он увидит немало прозрений и предвосхищений. Так, он обнаружит у Лассуэлла ряд наблюдений, которые как бы предугадывают будущую концепцию «мягкой силы» Дж. Ная. Специалист по memory studies наверняка отдаст себе отчет в том, что отличным введением в его предметную область может послужить язвительное лассуэлловское замечание: «Легкость, с какой честные и ловкие руки могут облекать дело в ту или иную форму по любую сторону спора, не оставляет сомнений в том, что в будущем пропагандист может рассчитывать на целый батальон честных профессоров, когда нужно будет переписать историю, обслужить актуальные требования момента и снабдить его материалом для широкого распространения». В то же время некоторые казусы, которым уделяет внимание Лассуэлл, в частности история с «пломбированным вагоном», не могут, строго говоря, учитываться только по «ведомству» коммуникации и пропаганды, но, скорее, должны рассматриваться как дестабилизирующие операции, направленные на разрушение изнутри политической системы враждебной державы.
Еще одна важнейшая тема, если не лейтмотив, книги Лассуэлла – это комплексное воздействие войны на общество, общественное сознание, социальные структуры и процессы. В этом контексте «Техника пропаганды…» является важной книгой для военной социологии и социологии чрезвычайных ситуаций. Но не только. Здесь снова уместно взглянуть на исследовательскую деятельность Лассуэлла в развитии, соотнести ее с рубежными событиями всемирной истории XX в. – Первой мировой войной, великой депрессией, Второй мировой войной, холодной войной. В частности, от «Техники пропаганды…» вполне уместно протянуть связующую нить к «Гарнизонному государству»[33], модель которого Лассуэлл описал уже во время новой мировой войны, незадолго до японского нападения на Перл-Харбор. По сути, гарнизонное государство – это модель политической организации, в которой неуклонно возрастает роль профессионалов, в чьи задачи входят подготовка и ведение войны, а также применение государственного насилия. Эти тенденции обнаруживают себя независимо от того, является ли политическая система конкретного государства диктатурой или демократией. Память о прошлой мировой войне и перспектива вовлечения в новую мировую войну, где еще большее значение будут иметь технические и организационные факторы, неуклонно трансформирует в направлении милитаризации политические институты и само мышление людей, наделенных властью.
Наконец, нельзя не отметить значение первой книги Лассуэлла для историков. Автор с самого начала делает оговорку, что в его намерения не входит изложение истории пропаганды эпохи мировой войны. Но очевидно, что ни один серьезный историк не пройдет мимо ряда суждений и оценок Лассуэлла, представленных в «Технике пропаганды…». Кроме того, если учесть, что, занимаясь подготовкой докторской диссертации, Лассуэлл провел большое количество интервью с сотрудниками пропагандистских служб, военными, дипломатами, представлявшими воюющие стороны по обе линии Западного фронта, многие страницы его книги могут быть использованы в качестве ценного источника по истории Первой мировой войны и военной пропаганды.
3. Российская пропаганда в годы первой мировой войныСвое исследование Гарольд Лассуэлл сознательно ограничивает несколькими крупными европейскими государствами и США. В эту выборку не попало большинство стран Европы, Америки и Азии, причем не только «малые» государства, но и такие державы, как Россия, Австро-Венгрия и Турция. Выбор Лассуэлла нельзя не признать логичным: в своей книге он стремился проанализировать феномен пропаганды на примере основных победителей и основных проигравших. К числу последних автор отнес Германию, но не ее союзников, которые во многом ориентировались на германские методы ведения пропаганды. России в этом смысле повезло еще меньше: она отведена на периферию пропагандистской кампании союзников и считается одной из главных «жертв» вражеской пропаганды. Неудивительно, что в книге Лассуэлла практически нет описаний российской пропаганды. Сама Россия, настроения российского общества упоминаются, но скорее в контексте пропаганды ее союзников или врагов. Попытаемся отчасти восполнить этот пробел, охарактеризовать организацию и идеологические основания российской пропаганды времен Первой мировой войны.
3.1. Организация пропаганды
Лассуэлл выделил три основных подхода к организации пропаганды: создание «одного исполнительного пропагандистского органа, выступающего от имени основных департаментов» (США), сложный путь к централизации пропаганды (Великобритания) и самостоятельная пропагандистская деятельность разных ведомств (Германия). Россия в этом вопросе пошла скорее по германскому пути. С началом войны функции военной и политической пропаганды лежали в основном на министерстве иностранных дел, Ставке и Главном управлении Генерального штаба (ГУГШ). Четкого понимания, в каком направлении, на каком идейном багаже следует развивать пропаганду, у этих ведомств не было. Как и в Германии, в России свою роль сыграло недоверие и соперничество между военными и гражданскими властями, которые ревностно отстаивали свои прерогативы и самостоятельность.
Попытки координации предпринимались уже в первые недели войны. В августе 1914 г. было созвано «Междуведомственное совещание по выработке мер для борьбы негласным путем против распространения заграницей вредных для наших государственных интересов ложных сведений о России и русской армии». В нем участвовали представители военного и морского министерств, МИД, Петроградского телеграфного агентства (ПТА), Главного управления по делам печати, министерства финансов. Однако итоги ее работы были достаточно скромны: предписывалось активизировать работу посольств и консульств по представлению российской точки зрения на военные события. Основными каналами распространения «правильной» информации должны были стать телеграфные агентства в нейтральных городах, прежде всего в Стокгольме, Копенгагене, Вашингтоне, Берне, Риме и др. Сразу же остро встал вопрос о кадрах: в каждом из этих городов нужны были не только дипломаты, но и журналисты, готовые, хотя бы и за деньги, сотрудничать с местной прессой[34].
В МИД функции пропаганды были возложены на Отдел печати и осведомления, деятельность которого в основном состояла в составлении ежедневных обзоров печати на нескольких языках. В военное время в задачи Отдела входило создание в нейтральных странах «благоприятного мнения как о внешней, так и о внутренней политике России»[35]. Стратегия была достаточно пассивной и сводилась к опровержениям «лжи» о России и русской армии. Этим целям служили официальные бюллетени и телеграммы ПТА, рассылавшиеся в нейтральные столицы. Однако даже широкая рассылка далеко не всегда могла дать нужный эффект: наученные опытом работы с воюющими государствами, нейтральные газеты и журналы могли либо не печатать такие сообщения вовсе, либо помещать их в отдельные колонки. В определенной степени помогало сотрудничество с крупными информагентствами, прежде всего Рейтер, Гавас, Ассошиэйтед пресс и др. Дальнейшее развитие пропаганды наталкивалось на организационные и финансовые трудности: нужны были деньги для подкупа органов печати, а также журналисты, готовые за эти деньги работать.
Пыталось наладить пропаганду и военное командование. Условно деятельность военных можно разделить на несколько направлений: пропаганда в русской армии; пропаганда на вражеское население и войска; пропаганда на нейтральные государства. Первое направление было самым массовым, но и самым сложным. Всего в 1914–1917 гг. выходило 17 фронтовых газет. Выпускались специальные брошюры, часто служившие пособием для офицеров в их беседах с солдатами о войне. Характерной особенностью были листовки, которые русское командование с начала 1915 г. готовило не только для вражеских, но и для собственных войск. Вся эта печатная продукция была призвана поднимать боевой дух войск и формировать «сознательное отношение» к войне[36]. Однако у пропагандистской литературы и печати была одна общая проблема – малые тиражи и низкая популярность в войсках. Гораздо охотнее солдаты читали «гражданскую» печать, которая различными путями попадала на фронт. Схожая ситуация была и с доставкой литературы: лишь к декабрю 1916 г. правительство смогло составить подробные списки литературы, рекомендуемой к распространению на фронте[37], в то время как на фронте и в лазаретах давно и активно распространялась нелегальная литература. Сказывались и плохо налаженные связи с частными издательствами, общественными организациями, киностудиями, без которых было трудно организовать производство и распространение литературы, прессы и фильмов.
Пропагандой в нейтральных странах занимался отдел Генерал-квартирмейстера ГУГШ (Огенквар). За годы войны отделом было выпущено несколько брошюр для «нейтралов», в августе 1915 г. было создано телеграфное агентство «Норд-Зюд», нацеленное на балканские страны и на Швейцарию. МИД в целом было не против координации усилий, но понимало под ней скорее собственный контроль над посылаемой информацией. В 1916 г. предпринимались новые попытки скоординировать работу. С января 1916 г. действовало Особое совещание для организации воздействия на нейтральные страны, в котором участвовали и представители МИД. Основной своей задачей совещание видело пропаганду «позитивного» образа России в мире. Предполагалось издавать литературу, кинофильмы, радиопередачи, которые «могут возбудить живой интерес и увеличить симпатии к России правительств и населения невоюющих с нами держав»[38]. В конце 1915 г. было создано Бюро печати, куда входили и представители газет и журналов. Бюро было призвано упорядочить доставку сведений о ходе войны в прессу, повысить доверие к официальным источникам информации[39].
В это же время начало реформировать пропагандистскую работу МИД. В апреле 1916 г. началась серьезная реорганизация Отдела печати и осведомления, который должен был стать авторитетным источником информации о происходящем в России, на фронтах войны, в стане союзников и вражеских государств. Активизировалась работа с иностранными газетами по размещению дружественных материалов о России. Планировалось учредить новое издательство, призванное всемерно продвигать пропаганду в России и за рубежом. Формально независимое, это издательство должно было включать известных общественных деятелей (П.Б. Струве, П.П. Мигулин, В.Д. Кузьмин-Караваев и др.). Однако этот амбициозный проект так и не был реализован, сказалось недоверие к «общественникам» и их запросам на реальную независимость от каких-либо ведомств[40].
В целом организация российской пропаганды на фронте и в других странах была слабо организована, не имела четких идеологических установок и единого руководства. Все попытки централизации пропагандистской деятельности наталкивались на взаимное недоверие ведомств, бюрократическую волокиту. Свою роль играли недооценка пропаганды как таковой, распространенное неверие в ее эффективность. Это повлияло и на идеологическую составляющую пропаганды: Ставка и правительство считали ее скорее уделом слабого и ложью, недостойной сильной армии.
3.2. Виновность в войне и цели войны
Последовательное ухудшение русско-германских отношений в предвоенные годы не могло не отзываться на страницах печати. Фактически еще до войны значительная часть русских газет формировала устойчивый образ Германии как давнего противника России. До поры описание русско-германского соперничества умещалось в рамки экономики. Особое недовольство вызывала германская военная миссия в Константинополе, которая рассматривалась как прямой вызов России в стратегически важном для нее регионе[41]. Враждебное отношение к Германии и Австро-Венгрии проявлялось в разных формах. Националистическая печать (прежде всего столичное «Новое время») значительную часть передовиц посвящала агрессивной экспансии германских коммивояжеров, их вторжению на «чужие» рынки в юго-восточной Европе, Азии и Африке[42]. Немцы и австрийцы были частыми «героями» журнальных карикатур[43]. При этом раздавались и голоса в поддержку сближения России с германскими государствами. Правая печать («Земщина», «Русское знамя») видела в новом «Союзе трех императоров» оплот монархизма в Европе[44]. Однако такой взгляд на европейские дела был накануне войны непопулярен.
Июльский кризис 1914 г. дал националистической прессе новый повод для «разоблачения» политики германских государств. Австро-сербский кризис рассматривался как новый виток давнего противостояния «славянства» и «германизма». С этой точки зрения Сербия была своеобразным форпостом славянского мира, первым рубежом на подходе к «цитадели» – России. «Новое время» предупреждало, что Россия не может позволить себе вновь отступить перед лицом нового немецкого нашествия.
Однако этот взгляд на события был далеко не единственным. Либеральная печать считала, что России невыгодна европейская война и ее следует избежать любыми путями. Кадетская «Речь» настаивала на том, что России необходимо соблюдать строгий нейтралитет и воздержаться от «каких бы то ни было поощрений по адресу Сербии»[45]. За эту позицию «Речь» подверглась острой критике со стороны не только «Нового времени», но и союзников по либеральному лагерю. Однако надежда на то, что войны удастся избежать, сохраняли газеты всех направлений. Либеральные «Русские ведомости» называли возможную войну «всеобщим проигрышем», так как разорвутся тесные связи между противниками и рухнет вся международная торговля[46]. «Земщина» до последнего момента надеялась на «царственное слово императора Вильгельма, которое отрезвит австрийскую дипломатию»[47].
Австро-сербский конфликт имел большое значение как с юридической, так и с морально-этической точки зрения. В каком-то смысле сербский casus belli стал основой для будущих оправданий союзниками войны. На сербском примере были апробированы сюжеты коварного нападения «сильного» и «большого» на «маленького» и «слабого». Еще до разрушительной бомбардировки немцами бельгийского Лувена австрийцами была осуществлена бомбардировка Белграда. Образ «маленькой Сербии» стал для русской печати своеобразной прелюдией и моральным эквивалентом «маленькой Бельгии». Сравнение этих образов позволяло вывести войну за рамки местного балканского конфликта и за рамки борьбы «славянства» и «германизма».
Нападение на Бельгию преподносилось как начало борьбы европейской «цивилизации» против германской «культуры», поправшей и международное право, и неформальные законы уважения к ближнему. Уничтожение единой Германии, «раковой опухоли» на теле Европы, многие русские журналисты считали главной целью войны. «Новое время» заявляло, что с Германией «бесполезно и бесцельно договариваться», ее «можно только стереть с лица земли»[48]. Либеральная печать не была столь категорична и желала сохранения Германии, возвращения немцев в число «культурных народов»[49]. Отречение Вильгельма II, как главного виновника войны, не обсуждалось, однако предложения свергнуть династию Гогенцоллернов цензура не пропускала, усматривая в этом антимонархическую пропаганду[50]. Но судьба Германии была на втором плане для русской печати, так как «исторические задачи» России и либеральная, и консервативная печать видела в окончательном освобождении западных славян от австрийского «ига» и в овладении Россией Проливов[51].
Таким образом, для русских газет всех направлений нарушение Германией и Австро-Венгрией международного права стало, по сути, идеологическим оправданием войны. В результате произошло небывалое единение печати, продолжавшееся, правда, совсем недолго: совпадая в общих взглядах на войну, старые противники по-прежнему расходились в частностях.
3.3. Демонизация врага
Особенностью России было появление сюжета о «немецких зверствах» еще до начала военных действий. Этому способствовали многочисленные слухи о жестоком обращении с русскими подданными, застигнутыми войной в Европе. «Новое время» ежедневно публиковало сообщения о «мытарствах» туристов, сумевших выехать из Германии и Австро-Венгрии и добраться домой. Душераздирающие истории (с добавлениями якобы от «собственных корреспондентов») перепечатывала бульварная пресса, стремившаяся привлечь читателей. На этом фоне резко изменилось восприятие немецкого народа, в том числе и со стороны тех журналистов, которые еще недавно положительно отзывались о нем. Один из ярких примеров – журналист «Нового времени» М.О. Меньшиков. В 1909 г. он признавался: «Помимо политики я лично люблю Германию. Люблю ее рыцарскую культуру, ее философский гений, ее протестантское благочестие, ее удивительное трудолюбие, бесстрашие и физическую свежесть расы»[52]. 26 июля 1914 г. он заявил, что война идет «не с мирной частью немецкого народа», а с «правящей верхушкой» в лице кайзера и его клики[53]. Личность германского императора действительно была в первые дни войны в центре внимания. На Вильгельма II газеты поначалу возлагали личную ответственность за развязывание никому не нужной войны. Считалось, что всему виной – его психическая неуравновешенность и мания величия. В прессе публиковалась информация о многочисленных «сумасбродных» выходках, грубости кайзера, его физических недостатках и комплексах[54]. Кадетская печать и здесь не преминула отметить губительность для мира любых авторитарных форм правления и концентрации власти в руках одного человека[55]. Вильгельм II, таким образом, поначалу служил универсальным оправданием войны, а немецкому народу отводилась роль «ведомого».
Однако с 29 июля ситуация стала меняться. В этот день появились первые сообщения о «зверствах» германской армии в Бельгии и Польше[56]. Через месяц Меньшиков попытался обобщить содеянное немцами: «Все преступное до пределов людоедства в отношении русских немцами уже исчерпано. Исчерпаны все виды издевательства, брани, побоев, лишения свободы, томления голодом, оплеваний и истязаний. Исчерпано воровство, ложь, клевета… изнасилование женщин и, наконец, самое циническое человекоубийство»[57]. Здесь и во многих других статьях проводилась мысль об «озверении» не отдельных чиновников или военных, а всех немцев, которые до войны лишь скрывали свою «истинную сущность». Объяснения этому разыскивались в истории и культуре германского народа. В прессе того времени можно встретить немало исторических экскурсов, повествующих о коварстве и жестокости германских и прусских королей, о «зверствах» немецких армий в ходе Семилетней, Франко-прусской и Наполеоновских войн[58]. Получили распространение и расистские теории. Тот же М.О. Меньшиков развивал теорию, согласно которой германские племена изначально отставали в развитии от «кельто-славянских», причем из-за «врожденных» особенностей. Германская раса, писал Меньшиков, «значительно низшего типа, чем кельто-славянская, а знаменитый неандертальский череп, столь типический для северных тевтонов, наиболее звероподобен, приближаясь к черепу гориллы»[59].
Разумеется, это не было только лишь эмоциональной реакцией на жестокости врага. С обрывом телеграфных связей у прессы не осталось иных источников информации из Европы, кроме официальных: ПТА, Ставка, ГУГШ и МИД. От них исходили описания преступлений германской армии, подробности об издевательствах над туристами, пленными, случаях изнасилований, осквернения святынь, использования разрывных пуль, злоупотребления белым флагом, убийств врачей и сестер милосердия, отравления колодцев и т. д. Описания преступлений были очень похожи на подобные описания в прессе и правительственных сообщениях союзников. Различия были лишь в месте преступления: «озверевший немец» бомбардировал с одинаковой жестокостью бельгийские и польские города, совершал одни и те же насилия над бельгийцами, французами, русскими и поляками. Создавались и своеобразные «восточные эквиваленты» немецких преступлений. Так, подробно описывался разгром немецкими войсками приграничного польского города Калиш, его судьба часто сравнивалась с бельгийским Лувеном[60]. Сюжеты этого разгрома были воспроизведены в сотнях телеграмм и статей, стихах, рассказах. В центре повествования часто была история казначея П.А. Соколова, уничтожившего большую часть казенных денег и расстрелянного за это немцами[61].
Немецкие «зверства» изображались на открытках, плакатах, лубках. Издавались и переиздавались сборники историй об издевательствах над русскими туристами в Германии, о военных преступлениях австро-германских войск[62]. Большая часть материалов в этих сборниках была основана на материалах прессы, официальных сообщениях Ставки и МИД. Правдивость этих историй часто ставилась под сомнение современниками[63]. С целью выявления реально имевших место фактов «зверств» в апреле 1915 г. была создана «Чрезвычайная следственная комиссия для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками». Комиссия создавалась во многом под впечатлением от доклада Джеймса Брайса, президента Британской академии, о германских зверствах в Бельгии. Доклад Брайса Лассуэлл справедливо назвал «одним из триумфов Мировой войны на пропагандистском фронте». Сведения о военных преступлениях противника комиссия черпала из разных источников, в основном это были показания офицеров и солдат, сестер милосердия, дипломатических работников, священников, а также частных лиц. За годы войны были собраны сведения о более чем 15 тыс. нарушений законов и обычаев войны, отчеты комиссии были растиражированы в 3 млн экз.[64] Однако большие тиражи не могли компенсировать недостаток доверия к источникам. Комиссия состояла почти полностью из чиновников, в ней не было, по выражению Лассуэлла, «лиц, известных во всем мире своей верностью истине». С недоверием к деятельности комиссии относились военные, видевшие в ней вмешательство в «чужие дела». Пресса часто высмеивала поставленную на поток фиксацию «зверств»[65]. Наконец, фронтовики видели в «зверствах» скорее неприглядную сторону войны, чем доказательство озверения вражеских народов[66].



