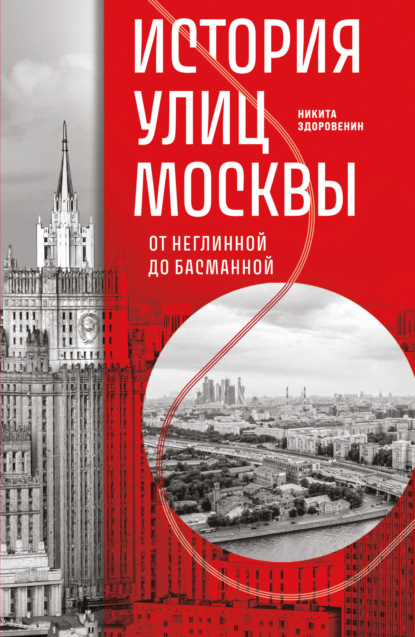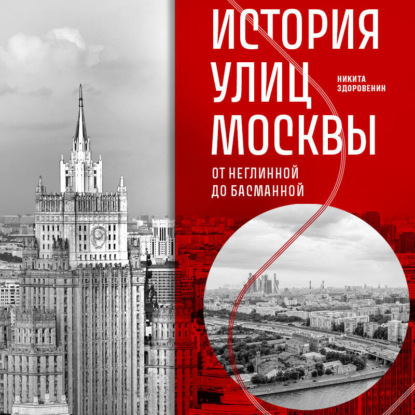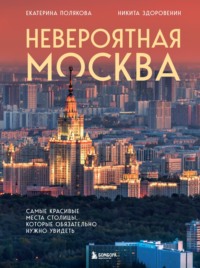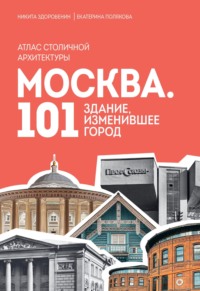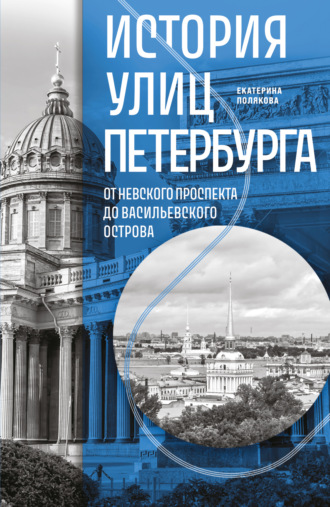
Полная версия
История улиц Петербурга. От Невского проспекта до Васильевского острова
«Великий князь Андрей Владимирович произвел на меня сразу в этот первый вечер, что я с ним познакомилась, громадное впечатление: он был удивительно красив и очень застенчив, что его вовсе не портило, напротив. Во время обеда нечаянно он задел своим рукавом стакан с красным вином, который опрокинулся в мою сторону и облил мое платье. Я не огорчилась тем, что чудное платье погибло, я сразу увидела в этом предзнаменование, что это принесет мне много счастья в жизни. Я побежала наверх к себе и быстро переоделась в новое платье. Весь вечер прошел удивительно удачно, и мы много танцевали. С этого дня в мое сердце закралось сразу чувство, которого я давно не испытывала; это был уже не пустой флирт…»
Из мемуаров М. Ф. КшесинскойВ 1902 году у Кшесинской родился сын, а сплетни о том, кто же является отцом, ходили во всех салонах и клубах Петербурга. Мальчика назвали Владимиром, а отчество у него было Сергеевич, так как великий князь Сергей Михайлович признал его своим сыном.
В 1904 году для Матильды строится огромный особняк на Петроградской стороне, которой обходится в полмиллиона рублей, хотя балерина за выступление получала около 1000. Молва приписывает этот подарок императору, хотя, скорее всего, это все-таки был подарок Сергея Михайловича. Он стал инспектором артиллерии, в его руках находились государственные закупки пушек для армии и флота, которые делались в основном на заводе Путилова. Акционером этого завода была и Матильда Кшесинская – балерина была совладелицей предприятия.
Матильда обустраивала дом на свой уточненный вкус: «План я заказала очень известному в Петербурге арх. Александру Ивановичу фон Гогену и ему же поручила постройку. Перед составлением плана мы вместе обсуждали с ним расположение комнат в соответствии с моими желаниями и условиями моей жизни. Внутреннюю отделку комнат я наметила сама. Зал должен был быть выдержан в стиле русского ампира, маленький угловой салон – в стиле Людовика XVI, а остальные комнаты я предоставила вкусу архитектора и выбрала то, что мне более всего понравилось. Всю стильную мебель и ту, которая предназначалась для моих личных комнат и комнат моего сына, я заказала Мельцеру».
Александр фон Гоген был опытным архитектором и для отделки фасада выбрал долговечные материалы: валаамский гранит, глазурованную плитку. Сохранился чудесный стеклянный фонарь зимнего сада и кованые украшения фасада с извивающимися растительными орнаментами, выполненные мастерами предприятия «Сан-Галли». Помимо внешней красоты, дом мог похвастаться всеми желаемыми удобствами: здесь были своя прачечная и коровник – Матильда хотела обеспечить сыну свежее парное молоко, сарай для экипажей и гараж, ледник, кладовая и котельная. Хозяйка души не чаяла в своей огромной гардеробной, где все наряды и сценические костюмы были пронумерованы, как в библиотеке. Гордостью дома был винный погреб, в котором проводили званые ужины с винными дегустациями.
«У меня был, конечно, винный погреб. Он был наполнен чудными винами, которые Андрей для меня с особой любовью выбирал, и был устроен так, что я могла в нем давать ужины после спектаклей для любителей хороших вин, предоставляя им самим выбирать по каталогу то вино, которое каждый хотел».
М. Ф. КшесинскаяНо прекрасная сказка была разрушена в 1917 году: балерину предупредили о грядущих забастовках и посоветовали покинуть особняк. Прежде чем уехать – она закатила последнюю вечеринку, вытащив на стол свои богатства: столовое серебро, сервизы. Позднее большая часть этой красоты была разграблена. Кшесинская хранила свои украшения на сумму в несколько миллионов в сейфе ювелира Карла Фаберже, поэтому, забрав некоторые ценности, решила переехать вместе с сыном на квартиру к своему другу по сцене Юрьеву. Вскоре после этого в особняк ворвались солдаты, знавшие о привилегированном положении Матильды из газет, а после того как они обнаружили винный погреб и насладились его содержимым, в особняке устроили погром. Жильцами особняка стали солдаты мастерских запасного броневого автомобильного дивизиона, которые уже в марте пустили к себе лидеров большевиков и обустроили внутри особняка штаб.
Кшесинская под присмотром солдат несколько раз бывала в особняке, испытывая чувство ужаса за ту потерянную красоту, которую она так старательно здесь продумывала.
После скитаний в Финляндии, Кисловодске, Анапе и других городах балерина и великий князь Андрей Владимирович решили уехать из России, «бежать, бежать от большевиков».
Так началась эмиграция, в которой предприимчивая и известная на весь мир балерина не потеряла энтузиазма. Она открыла танцевальную школу в Париже, где ее секретарем стал великий князь Андрей Владимирович, и прожила до 99 лет.
Привет из Самарканда
На Петроградской удивляли не только романтические истории, но и сама архитектура. Удивительно видеть среди доходных домов и особняков соборную мечеть, как будто перенесенную на северные просторы из Самарканда. Ведь архитектор Васильев и правда вдохновлялся голубыми изразцами мечети Гур-Эмир, добавив перекличку со стилем северного модерна и используя в облицовке серый камень. Петербургская мечеть, вмещающая около 5000 верующих, строилась по всем канонам исламской архитектуры, например, она стоит под углом к Кронверкскому проспекту – чтобы в соответствии с традицией ислама алтарь мечети был ориентирован на Мекку. В 1907 году прошел конкурс проектов – на него было подано 45 работ! Но победитель был очевиден – первые два призовых места заняли проекты одного архитектора – Николая Васильева. Его помощниками стали Александр фон Гоген (его фамилия уже упоминалась сегодня в истории про особняк Ксешинской) и Степан Кричинский.
Средства на строительство собрала мусульманская община, состоявшая в основном из татар, а для работ были приглашены мастера из Средней Азии. Большую долю стройки спонсировал эмир Бухарский – он выкупил землю специально для создания здесь мечети. Удивительного разнообразия мозаики создали Ваулин и его мастера: керамист отправлял сотрудников в командировки в Самарканд для детального изучения местных мозаичных техник. А сами знаменитые мастерские Ваулина находились в Кикерине под Гатчиной.
Соборную мечеть не успели закончить до революции, часть ее открыли для верующих, а часть достраивали до 1921 года. Но уже к концу 1920‐х годов появилась организация «Союз воинствующих безбожников», и вскоре мечеть частично отдали под склад, где хранили фрукты и овощи. Тем не менее религиозные службы здесь прерывали только с 1941 по 1955 год. После многочисленных писем к Хрущёву мечеть вернули мусульманам.
Петербург для киноманов
Поговорим теперь о петербургских развлечениях, ведь неподалеку, в здании цирка «Модерн» на Кронверкском проспекте, 11, раньше размещался синематограф «Колизей». Индустрия кино пришла в Петербург почти сразу после знаменитого показа «Прибытия поезда» братьев Люмьер в Париже. Предприимчивые горожане стали открывать кинотеатры и снимать фильмы. Весной 1896 года для съемки коронации императора Николая II из Франции пригласили работавшего на братьев Люмьер оператора Камилла Серфа. В этом же году открылся первый петербургский кинотеатр на Невском проспекте, 46. Сначала там крутили французские фильмы-короткометражки, причем сюжеты их сегодняшнему зрителю показались бы более чем странными. Что же мог посмотреть неискушенный зритель?
«Садимся. Свет гаснет и начинается сеанс.
Сегодня в программе две жуткие драмы. Обе французские. В одной показывается драма матери и нескольких ее детей, доведенных нуждой до отчаяния. В конце концов мать в слезах целует своих детей по очереди, прощается с ними, после чего вынимает из плиты жаровню с углем. Видимо, образуя от несгоревших углей угар, – семья корчится в предсмертных муках и на полу лежат трупы всей семьи.
Картина кончена. Зрители потрясены, кое-кто плачет.
2-я картина. Не так ясно помню содержание. Но, видимо, рабочий, возвращаясь в свою семью, спешит в дом, где находится его квартира где-то в верхнем этаже. Его радостно встречают ребятишки. Вот они уже все дома. Отец открывает окно, что-то чинит, стоя на окне. Мгновение – и он теряет равновесие и падает во двор с высоты не то 5-го не то 6-го этажа и бездыханный лежит во дворе.
Прибегают плачущая жена и ребятишки. Семья в отчаянии.
Опять всхлипывание – мелькают платки.
Видовая. Красивое озеро типа швейцарского. Плывет легкий парусник, навстречу медленно проплывает пассажирский пароход. Пассажиры машут платками.
Зрители умиляются красоте природы.
Комическая. Сплошной наворот трюков; падений, пощечин, драк, погоня, в общем ни смысла, ни сюжета. Публика хохочет. Сеанс окончен.
Сидел в первом ряду, разболелись глаза и голова. Моя мать, с которой я был, дала свое слово больше в синематограф не ходить».
А. И. Жуков, советский актер, побывавший на премьереСо временем, пытаясь подстроиться под требования аудитории, репертуар меняли: стали показывать сюжеты из российской жизни. Встречались, например, фильмы о донских казаках или рыбном промысле в Астрахани, о добыче нефти в Баку, о визитах глав иностранных государств. Первые киносеансы устраивались в «балаганах», там были стоячие места по 15 копеек (где-то 200 рублей на современный лад), а впридачу духота, жара от рубки и опасность пожаров.
Интеллигентная публика побаивалась туда ходить, и, чтобы улучшить имидж синематографа, с середины 1910-х начинают строиться кинодворцы. Не склады с натянутой простыней, а роскошные залы с хрусталем, блестящим мрамором и изысканной атмосферой. В Parisiana на Невском проспекте в ложи даже провели городские телефоны – феномен для 1914 года. Билеты на такие сеансы стоили примерно рубль (на сегодня это около 1300 рублей) на первые ряды и порядка 30 копеек – на места в глубине зала. Кино бывало сложно понять без программки – их вручали перед началом сеанса. До нас дошли описания нескольких петербургских кинотеатров, современников «Колизея». Например, так выглядел кинотеатр «Танагра» на Невском проспекте в 1910‐х годах. «Фойе – малиновая комната. Малиновые обои. Малиновые тяжелые портьеры. Малиновая мягкая мебель. Мягкие ковры. С потолка свешиваются изящные, стильные люстры – “Модерн”. Без всяких задержек, не дожидаясь антракта, проходите в зал. Карлик-билетер отбирает ваш билет».
Стоит вспомнить, что звука в тех фильмах еще не было – «саундтрек» параллельно немому фильму ставили на пластинках или создавали тапёры, они сидели в оркестровой яме около экрана.
Чаще всего это был один человек, и только в исключительных случаях – целый оркестр. Профессия эта была сложной, работать приходилось по 7–10 часов в сутки, но можно было придумывать оригинальную озвучку фильму прямо на ходу, импровизируя. Иногда тапёр вообще не видел, что происходит на экране, трагическая сцена могла сопровождаться веселой игривой музыкой. Как вспоминал Николай Анощенко, «по какому-то неписаному правилу обычно при показе видовых картин играли вальсы, комические фильмы с погонями, драками и нелепицами иллюстрировали веселыми галопами и полечками, а вот под всякие сердцещипательные драмы играли всё, что приходило им на ум». Этой работой не брезговали даже будущие гении классической музыки, например Дмитрий Шостакович.
Кино постепенно отнимало аудиторию у театров, и в 1916 году стало настолько популярным, что в Петербурге успело поработать около 400 синематографов.
Люди приходили в кинозал, чтобы погрузиться в мир грез или пощекотать нервишки. Увидев мчащийся на них в клубах дыма паровоз в «Прибытии поезда» братьев Люмьер, некоторые люди верили в его реальность и бежали что есть мочи. Но обычно сеанс завершался комическими зарисовками, чтобы зрители ушли радостные и захотели вернуться еще.
Свидания на роликах
На том же месте находилось еще одно популярное развлечение для заскучавшего петербуржца: скетинг-ринг. Тренд на них появился сначала в европейских столицах, где стали кататься на квадах – предках роликовых коньков. И опять закопошились петербургские бизнесмены: кто сможет проехаться на волне новой моды. Успешнее всех стал инженер Владимир Татаринов, который ранее уже успел подпортить свою репутацию разработкой автомобиля, который так и не смог подняться в воздух. Но на этот раз судьба была к нему благосклонна: первый скетинг-ринг под названием Royal Skating в Петербурге на Кронверкском проспекте, 11, запустил именно Татаринов. Причем бизнес шел так хорошо, что он запустил собственное производство роликов и предлагал ринки-франшизы в других городах, которые обслуживало его Центральное бюро по организации скетинг-рингов в России. Спорт этот на первых порах был совсем не для бедных: утренний сеанс катания стоил 50 копеек, вечерний же вообще поднимался до 1 рубля. Первыми клиентами стали петербуржцы, имевшие опыт катания на европейских курортах. Узнав о новинке, подтянулись и другие зажиточные горожане, были и те, кто отдавал последние деньги, чтобы блеснуть на колесах. Но зато какой кураж, да еще и возможность завести новые знакомства.
«Едем на скетинг-ринг. Круглый, гладкий, как лед, манеж, а в местах для зрителей – пропасть публики, и, что всего обиднее, половина из них – наши хорошие знакомые, со многими из которых я имею солидные деловые связи. На манеже молодые люди обоего пола бегают и крутятся как сумасшедшие на коньках с колесиками. Грохот невообразимый!»
А. И. КупринРинги мало кто воспринимал как спорт, хотя по катанию издавали пособия, а на площадке дежурили маршалы – инструкторы, которые также следили за порядком. Личным тренером хотели стать многие, профессия с заработком до 1000 рублей в месяц пользовалась популярностью благодаря хорошим чаевым от министерских и генеральских жен. Но большинство посетителей приезжали сюда ради атмосферы – покататься под живую музыку оркестра, выпить ликер или шампанское (крепкий алкоголь в буфетах был запрещен) и продегустировать закуски, некоторые посетители заводили интрижки и затем отправлялись в приватные комнаты.
«Зимой это своеобразный сборочный пункт петербургского полусвета – людей, не имеющих твердого общественного положения, но стремящихся во всем подражать родовой и денежной аристократии. К полудню сюда съезжаются дамы и молодые люди, катаются до глубокой ночи. Здесь заводят ни к чему не обязывающие романы, ищут и находят богатых поклонников, флиртуют, обмениваются сплетнями. По паркету скользят танцующие пары, новеньких вводят в курс дела прекрасные, атлетически сложенные инструкторы, имеются буфет и телефонные кабинки. С мужьями и женами ходить на скетинг-ринг не принято. Огражденные высокими ценами на билеты от простых посетителей, скетинг-ринги становятся своеобразными клубами столичной “золотой” молодежи. Здесь собирается множество искателей приключений, живущих не по средствам».
«Петербургский листок»На роллердромах, помимо флиртующего бомонда в поисках второй половинки или состоятельных ухажеров, могли появляться и серьезные бизнесмены, надеявшиеся заключить выгодную сделку или получить конфиденциальную информацию о государственных заказах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.