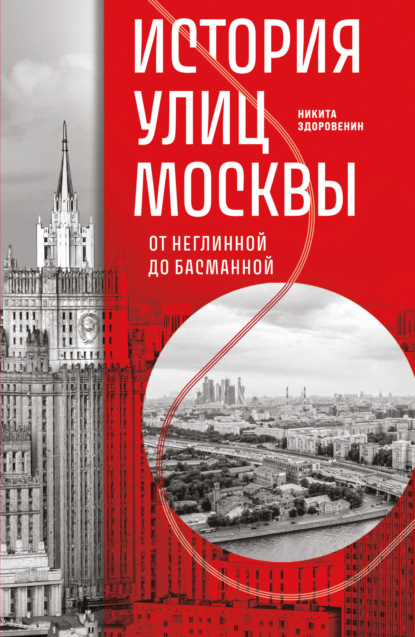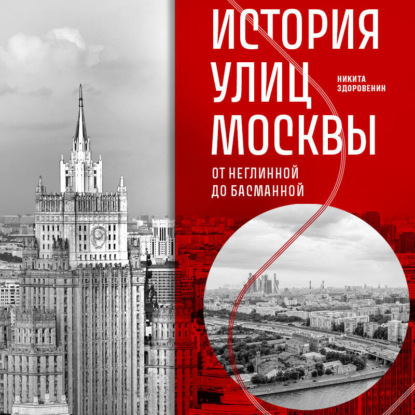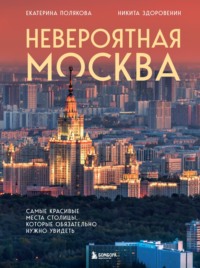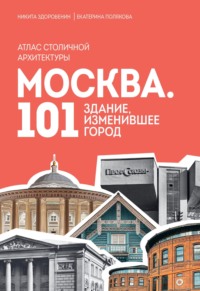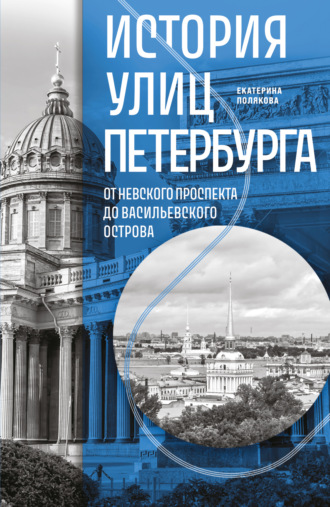
Полная версия
История улиц Петербурга. От Невского проспекта до Васильевского острова

Екатерина Васильевна Полякова
История улиц Петербурга
От Невского проспекта до Васильевского острова

© Полякова Е. В., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Вступление



В городе, которому больше 300 лет, не можешь не начать интересоваться историей.
Улицы и дома, словно нераскрытые книги, – просят заглянуть внутрь. Интригу поддерживают и названия: Гороховая, Итальянская, площадь Искусств – можно ли там действительно найти горох, итальянцев и муз? Все в этом городе не просто так, отсюда и романтика путешествия по Петербургу. Создавая книгу, я искала воспоминания дореволюционных петербуржцев и путешественников о городе, о их быте, увлечениях, работе и городских деталях, их окружавших.
Как они добирались на работу, как танцевали на балах и как это отразилось на нашей современной жизни? На тех зданиях, где мы живем, и на тех улицах, по которым любим бродить в поисках красоты и вдохновения.
Эта книга – путешествие в прошлое, а каждая улица – маленькая история, которая погрузит вас в жизнь того, старого города. С его газетчиками, конками, каналами, каретами, клубами аристократов и кострами на углах улиц для тех, кому некуда податься.
Мы посмотрим на мрачный Петербург окраин и на блистательный – богемный. Выпьем кофе с Ахматовой и Гумилёвым за старинной стойкой на старейшем вокзале страны, заглянем в гости к скандалистке-поэтессе Зинаиде Гиппиус, съедим крендель с Петром I в знаменитой харчевне, побываем в популярном кабаре «Бродячая собака», возьмем бутерброд из первого кафе-автомата, посмотрим фарсы – в общем, проживем жизнь настоящего озорного петербуржца-денди, который знает самые горячие и модные места города. Книгой можно пользоваться как путеводителем, а можно погружаться в истории, уютно укутавшись в плед.
Итак, поехали!
Петроградская cторона


Петровская набережная
• Где был первый центр Петербурга.
• Почему в «Аустерии» давали бесплатные крендели «хорошо одетым людям».
• Как Троицкий мост почти стал Эйфелевым.
Австерия с цвибель-клопсами
С чего начинался Петербург? Невский проспект изо всей своей трубящей силы закричал бы «С меня!», но у старого Петербурга были другие планы на этот счет. Его центром должна была стать современная Петроградская сторона. С нее-то мы и начнем наше путешествие по неизведанным уголкам того города, где плавали на лодках и смотрели потешные салюты, танцуя до упаду.
Троицкая площадь когда-то была кипящим центром города, здесь бурлила жизнь, проходили праздники, Пётр I закатывал здесь будоражащие фантазии банкеты в одной из первых харчевен города – «Царской» австерии. Но потом пришло несправедливое забвение, Троицкая стала пустой пыльной окраиной, которую сейчас редко включают в список обязательных к посещению мест Петербурга. Отдадим должное и переместимся на минутку в те времена, когда здесь было ярко, колоритно и весело.
Чего только не увидели жители России с Петровскими реформами: бритье с усердием отращенных бород под купеческие стоны и слезы, хмельные развлечения, несуразные одежды, даже в «Питере пить» привыкли еще в те времена. Петербуржцы могли отправиться в гастрономический тур по своему же городу, зайдя в «Аустерию», открывшуюся по велению Петра Великого в 1703 году на Троицкой площади, недалеко от уже строившейся Петропавловской крепости. На самом деле появление трактиров и кабаков в новой столице объяснить легко: в них разные сословия могли сблизиться, а еще мужчины, проживавшие в Петербурге в те годы, зачастую не имели семей, домохозяек не было, остро встал вопрос о том, кто же будет кормить этих голодных разгневанных молодцев.
Владелец заведения, принимавший у себя в основном иностранных шкиперов, русскую знать и моряков, придворный обер-кухенмейстер Фельтен, удивлял публику прусскими шнель-клопсами, цвибель-клопсами или тефтелями под соусом, а также исконно русскими похлебками – щами и ухой.
Угощению гостей сопутствовали пенная выпивка в глиняных кружках, закуска на оловянных тарелках, ароматные колбасы под потолком, карты и терпкий табак. Если вы были «порядочно одетым человеком», то при посещении «Царской австерии» вас угостили бы бесплатно «царской порцией» – чаркой водки и кренделем за счет заведения. Сам Пётр I бывал здесь по разным поводам, чаще всего по праздникам, после обедни в Троицком соборе, выпивал ту самую чарку анисовой водки, закусывал кренделем или куском ржаного хлеба с солью, после чего мог без лишних церемоний поболтать по душам, играл партию в шашки или, например, общался с иностранными гостями. Ходила легенда, что однажды голландские моряки пожаловались Петру, что в России нет вкусной еды, и Пётр повел их в «Аустерию» и «угостил такими оладьями с припеком, что моряки смущенно замолчали». На вывеске хозяйствовал торжественный портрет Петра I, появилась еще одна традиция: в полдень на верхней части галереи немецкие музыканты начинали зазывающе играть на флейтах и трубах.
Однажды здесь громко отпраздновали закладку Адмиралтейства, а потом победу под Полтавой и подписание Ништадтского мира. В 1720 году трактиру дали новое имя: «Четыре фрегата». Оно было очень символично, ведь в конце Северной войны именно после взятия на абордаж фрегатов русскими галерами разбитый и поредевший шведский флот решил отступить. Четыре трофейных корабля привезли в Петербург, а на Троицкой площади поставили в честь этой победы монумент. После четырех лет бешеной популярности «Аустерии» с 1706 года начинают появляться трактиры-конкуренты, например Меншиковская австерия. «Полудержавний властелин», то есть амбициозный Меншиков, переправляясь из своего дома на Адмиралтейскую сторону, после тяжелого водного путешествия через Неву заглядывал туда «передохнуть». В таких заведениях дворяне зачастую общались, заводили нужные контакты – устраивали «нетворкинг».
В честь чего площадь Троицкая?
Несмотря на такого кутежного соседа, на площади стоял один из главных соборов города, Троицкий собор. Да и в целом эта местность была деловым центром города, с деревянным гостиным двором, типографией, таможней, Обжорным рынком, зданиями Сената и Синода. Сюда приходили послушать новости, объявления указов царя, посмотреть на казни преступников или купить продукты. Но в 1710 году случился страшный пожар – уничтожил деревянные постройки и даже перекинулся на стоявшие поблизости корабли. Рынок решили перенести подальше – он получил новое название, Татарский, в честь находившейся неподалеку Татарской слободы – как и Татарский переулок.
Домик Петра
Мы побывали в первой харчевне Петербурга. А какой дом можно назвать одним из старейших в городе?
Это – «Первоначальный дворец», и он дошел до наших времен, хотя построен был в немыслимые сроки, всего за три дня, еще в 1703 году. Тогда, во время военного похода на шведов, царь начал ударными темпами строить крепость, нужно было жить рядом и постоянно контролировать процесс.
Царский дом Петра I на первый взгляд кажется обычным крестьянским домом, вдохновленным шведским стилем: в длину он всего 12 метров, в ширину – 5,5 метра, внутри – небольшие три комнатки и сени. Никакой роскоши, золота или мрамора. Неужели царь был настолько скромным и стеснялся высоких потолков и широких парадных залов? Дело в том, что домик строился временно, как летний, царь был неприхотлив в быту, в доме даже нет печки и дымохода. Петра I не смущало постоянно сгибаться в двери, чтобы при росте около двух метров не биться головой о дверной косяк.
В дизайне «хижины» видно увлечение Петра I Голландией: хоть он был срублен из тесаных сосновых бревен – домик расписали под кирпичную кладку, как в Амстердаме. На крышу положили гонт – крашеные под черепичную кровлю тонкие дощечки, там же поставили памятный для Петра I знак – деревянную мортиру с ядрами – ведь первое звание царя в «потешном полку» было «командир бомбардиров потешных войск». Еще при жизни Петра «Первоначальный дворец» стали считать исторической реликвией, поэтому внутренняя обстановка дошла до нас прекрасно. Комнаты обиты парусиной, а внутри многие объекты созданы рукой самого императора-плотника, например, кресло. При всей суровости и аскетизме интерьеров в столовой удивительно трогательной цветочной расцветки двери – на черном фоне пестреют васильки, розы и гвоздики. На столе, накрытом белой скатертью, – посуда, созданная русскими мастерами. Рядом – малюсенькая спальня размером меньше семи квадратных метров: кровать, на которой хозяин мог спать и полусидя, как было принято для пользы здоровья в те годы, была утрачена, зато можно увидеть трость и мундир Петра I.
Из-за частых наводнений дом постепенно разрушался. Сначала для защиты от дождя вокруг него соорудили галерею, а по велению императрицы Екатерины II дворец накрыли каменным футляром.
Для Романовых дом стал «местом силы», сюда помолиться перед иконой в часовне перед каждым своим путешествием в Ставку заезжал Николай II. Помимо императорской семьи, к Домику Петра I съезжалось множество паломников. Удивительно, что после революции этот памятник династии Романовых, правившей более 300 лет, разрушен не был. Наоборот, дом был практически сразу взят под охрану и музей продолжил свою работу.
Отсюда прекрасно видно крейсер «Аврора»
Что ему снится, мы не уточняли, но жизнь у него была насыщенная.
От участия в Русско-японской войне до символа революции 1917 года. До переворота «Аврора» успела побыть учебным кораблем и посетить порты многих стран. И даже поучаствовать в торжествах по случаю коронации сиамского короля в Таиланде.
Но главное событие было потом: именно после холостого выстрела с «Авроры» начался штурм Зимнего дворца. Корабль-музей, кстати, действующий, у него до сих пор есть командир.
Почти Эйфелев мост
Троицкий мост мог бы стать Эйфелевым мостом, но после шести лет томительного выбора проектов конкурс выиграла другая фирма. В договоре присутствовал особый пункт – мост в Петербурге строили только российские рабочие и только из отечественных материалов.
Из интересных деталей – фонари-трезубцы с вензелями императора Александра III. А еще в Будапеште есть мост – братец нашего: инженер Шаброль создал его немного раньше, но они очень похожи. Троицкий мост открыли 29 мая 1903 года, в день 200-летия Петербурга. Царю Николаю II тогда вручили удивительный подарок – электрический звонок. Поначалу его предназначение было непонятно, но как только император нажал на кнопку, Троицкий мост начал медленно разводиться. Звонок был связан с разводным устройством моста.
Именно после строительства этого моста стартовал строительный бум, сделавший улицы в районе Каменноостровского проспекта самыми модными для жизни в городе.
Представим, что мы надели фрак и отправляемся изучать роскошные дома Петроградской.
Каменноостровский проспект
• Кто поверил в талант начинающего архитектора Фёдора Лидваля и как к этому отнеслась его мама.
• Почему первые кинопоказы «расстраивали нервы».
• Где находится самый длинный двор-колодец в Петроградском районе.
«Подобно спящей красавице, Петербургская сторона, пробудившись после двухсотлетнего сна, наряжалась в одежды последней моды».
М. А. СементовскийКаменноостровский проспект петербургская печать нередко называла Елисейскими Полями Петербурга. В 1898 году на заседании Городской думы было даже предложено назвать улицу, видимо за ее шарм, «Французским проспектом». Но логика победила – дорога ведет на Каменный остров, а не в Париж, так что пусть и остается простая логика.
Здесь выстроены одни из лучших образцов северного модерна, рассматривать которые – как ходить в скульптурную галерею музея, только под открытым небом. Первый, один из самых помпезных, дом Иды Лидваль – полон удивительных деталей. Его украшают звери, совы, грибы и другие отсылки к культуре Севера и лесной чащи. Фасады здания, как избушка Бабы-яги, только огромная: несимметричны, фактуры добавляет и разная отделка – красный гранит в цоколе, горшечный камень на этажах, керамика, штукатурка. Яркая деталь – инициалы L на кованых решетках балконов по фамилии семьи владельцев Lidvall. Сложно поверить, что это первый архитектурный опыт мастера северного модерна Фёдора Лидваля и что строил он доходный дом для собственной матушки. Да, иногда нужно, чтобы кто-то в тебя поверил, и Ида оценила талант своего сына и не прогадала. Их семья жила здесь до самой революции, а в квартире № 23 до эмиграции жил сам архитектор.
Ида Бальтазаровна была женщиной деловой, с 8 детьми на руках, и им было тесновато в старом доме. Мастерская ее мужа «Лидваль и сыновья» по шитью мужской одежды и униформы для императорского двора была одной из крупнейших в Российской империи. Среди их заказчиков значился даже Феликс Юсупов. Мог бы подумать деревенский портной Юн Петтер Лидваль, когда приехал в Петербург из Швеции искать работу, что его дело достигнет такого размаха!
Лидваль встретил шведскую девушку Иду из семьи мастера-краснодеревщика, семья обзавелась детьми, а швейная мастерская привлекала солидных клиентов. Лидваль осуществил мечту российского бизнесмена того века – стал поставщиком императорского двора. После смерти мужа дело взяли в свои руки старшие сыновья. Ида решила взять кредит и вложиться в доходный дом. Первый единоличный архитектурный проект сделал 29-летнего Фёдора Лидваля звездой. Ведь обычно споры с заказчиком отнимают много сил, и зачастую проект получается не таким, как задумал архитектор. Но в этом случае творчеству была дана полная свобода. Лидваль выбрал стилистику модерна и очень постарался сделать дом запоминающимся. На его фасадах – растительные мотивы в виде чертополоха и подсолнуха, мухоморы и сморчки, рыси и огромные рыбы, зайцы и совы. Даже сосновые ветки с шишками можно найти и сюжет с юношей на фоне восходящего солнца. А как идеально вписался по смыслу образ паука на решетках – это же символ швейного ремесла, благодаря которому семья закрепилась в Петербурге. Дом действительно вышел уникальный, жить здесь было роскошно. Квартиры были оснащены ванными комнатами, отдельными прачечными и гладильными, клозетами и буфетными.
Были предусмотрены комнаты для швейцаров и дворников, а также каретный сарай. После эмиграции в Швецию Лидваль поддерживал контакты с некоторыми своими заказчиками, получал их поддержку, например с Нобелями, для них архитектор возвел доходный дом на Лесном проспекте, перестроил здание товарищества «Братьев Нобель» на набережной канала Грибоедова. Говорят, что Фёдор Лидваль считал дом матери своим любимым, хотя построил в Петербурге более 30 зданий. В эмиграции он переживал за его сохранность и интересовался судьбой дома после революции.
Кино вместо аквариума
Первый киносеанс в Петербурге состоялся 4 мая 1896 года в летнем саду «Аквариум» на Каменноостровском проспекте. Вообще, предприниматель Георгий Александров здесь планировал разместить самый большой в стране аквариум с необычными видами рыбок, удивительными рептилиями, читать лекции о живой природе. Но вскоре стало ясно, что людей притягивал ресторан с эстрадой, музыкальные концерты оперных звезд вроде Лины Кавальери, – и места животным уже не осталось. Зато появились разнообразные аттракционы, можно было побывать в «ледяном доме» или посетить один из первых конкурсов красоты «Осенняя выставка красавиц». Одним из востребованных зрелищ стало кино. Первый сеанс в городе был десятиминутной подборкой фильмов братьев Люмьер, и на него не покупали билеты специально: всего лишь показали в антракте одного из спектаклей. Но шоу оказалось очень зрелищным, и публика хотела продолжения. Стали показывать популярные в Европе короткометражки о повседневности: знаменитое «Прибытие поезда», «Выход рабочих с завода», «Разрушение стены».
Не все верили в чудотворный эффект киносеансов, кто-то посчитал, что кино испортит общество. Максим Горький, например, вот так отозвался об одном из первых киносеансов в своей жизни: «Вчера я был в царстве теней… Там звуков нет и нет цветов. Там все…окрашено в серый однотонный свет… Это не жизнь, а тень жизни, и это не движение, а беззвучная тень движения». Писатель не был уверен в пользе нового развлечения – «раньше, чем послужить науке и помочь совершенствованию людей… синематограф послужит Нижегородской ярмарке и поможет популяризации разврата»…
«Уж не намек ли это на жизнь будущего? Что бы это ни было – это расстраивает нервы. Этому изобретению, ввиду его поражающей оригинальности, можно безошибочно предречь широкое распространение».
М. ГорькийДействительно, предречение Горького сбылось: кино стало чрезвычайно популярным, а в советские годы было «рупором идеологии». На месте сада выросла киностудия «Севзапкино» – знакомая нам как «Ленфильм». Первым игровым фильмом, выпущенным этой студией, стала агитка «Уплотнение», рассказывающая историю подселения в коммуналку к профессору рабочих.
Здесь запустили школу молодежных мастерских – ее окончили многие знаменитости: Сергей Герасимов, Янина Жеймо, Алексей Каплер, Сергей Мартинсон и другие. В 1925 году здесь собирали литераторов для работы над качеством сценариев – в коридорах студии можно было встретить, к примеру, Вениамина Каверина, Евгения Замятина или Самуила Маршака.
Дом трех Бенуа
На Каменноостровском проспекте появился и один из первых жилых комплексов города. Если раньше архитекторы строили один доходный дом, то в доме трех Бенуа получился целый квартал, построенный братьями-архитекторами из прославленной династии. Самый известный ее представитель – художник Александр Николаевич Бенуа, сооснователь объединения «Мир искусства», известный своими театральными декорациями и пейзажами. Два из четырех архитекторов доходного дома приходились ему родными братьями. Идейным вдохновителем проекта жилого комплекса стал Леонтий Бенуа, который отучился в Академии художеств. В Петербурге он построил около 40 зданий, отличился своим проектом западного крыла Михайловского дворца – и сегодня мы зовем его «корпус Бенуа» Русского музея.
Бенуа вырастил и других прекрасных архитекторов, у него учился Алексей Щусев, создавший в Москве Казанский вокзал и Мавзолей Ленина и курировавший в советские годы множество проектов. Второго Бенуа звали Альберт, он тоже был выпускником Академии художеств и имел многогранный талант живописца и архитектора. С 1895 года он занимал должность хранителя Русского музея, а после Октябрьской революции стал заведовать Музеем прикладного искусства, но вскоре эмигрировал в Париж. Третий Бенуа, по имени Юлий, – был их кузеном. Стоит отдать должное единственному архитектору доходного дома не из династии Бенуа, Александру Гунсту, который был учеником Леонтия Николаевича. Эта дружная архитектурная семья решила перевернуть привычное понимание о доходном доме и выстроила то, что считается одним из первых ЖК в Петербурге.
Помимо привычных нам ванных с горячей водой и электричества, в этом элитном доме были даже мусоросжигательная печь, собственная телефонная станция и снеготаялка. На 250 квартир с каминами и встроенными гаражами внизу дома для набиравших популярность, но все еще редких автомобилей было 100 человек обслуживающего персонала: швейцары, дворники, сторожа.
Большинство квартир в Доме трех Бенуа были пяти- и семикомнатные.
Среди жильцов, которые могли себе позволить столь дорогую аренду, были состоятельные петербуржцы – ученые, композиторы, чиновники.
Здесь проживал Михаил, родной брат Антона Чехова. В то время он выпускал журнал «Золотое детство», в котором для юных читателей собирали выкройки игрушек, ребусы и игры.
Другими жильцами дома в разные годы были композитор Дмитрий Шостакович и советский политик Сергей Киров, который занимал 200-метровую квартиру. После его убийства в 1934 году в Доме трех Бенуа начались массовые аресты, репрессировали жильцов 55 квартир. Теперь из квартиры Кирова создали музей – поднимаясь туда и открывая входную дверь в огромную квартиру, застывшую в моменте, как будто попадаешь сквозь портал в прошлое. О прошлом дома напоминает и шикарный фасад: статуи бога торговли Меркурия и богини удачи Фортуны отсылают к заказчику дома – Первому Российскому страховому обществу.
Въезд во двор дома украшен колоннами из красного гранита, который специально для доходного дома везли с финского полуострова Гангут (современное название – Ханко).
Братья Бенуа, явно увлекавшиеся классическими мотивами, добавившие на дом колоннаду и скульптуры античных богов, решили запечатлеть и авторскую подпись: на втором этаже можно найти майоликовые гербы семьи Бенуа. Считается, что в Доме трех Бенуа самый длинный двор-колодец в Петроградском районе, некоторым он напоминает лабиринт.
Нарядный Каменноостровский проспект вдохновлял многих творческих людей.
«Каменноостровский проспект – одна из самых легких и безответственных улиц Петербурга. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки».
О. Э. Мандельштам в «Египетской марке»Кронверкский проспект
• Зачем в особняке Кшесинской жила настоящая корова.
• Как связаны мечеть Гур-Эмир в Самарканде и Петроградская сторона.
• Почему на «Скетинг-ринг» не приходили со своей второй половинкой.
Напротив Петропавловской крепости находится кронверк – дополнительная оборонительная линия в виде короны, которая отделена протоком. Проспект изгибается необычной для взгляда полукруглой формой – ведь на этом месте дорога изначально не планировалась.
На пыльном пустыре возле крепости ничего не строили для лучшей видимости в случае окружения крепости. Как писали в путеводителе по городу 1870 года, Петербургская часть «достойна замечания как место первого основания Петербурга; ныне же может называться предместьем его».
Но в XIX веке необходимость в фортификации уже отпала – вокруг стали расти деревянные домики, а потом и каменные доходные дома. Здесь, в отдалении от аристократического центра города, селились люди небогатые: мелкие чиновники или отставные военные, мастеровые. Оживления району придавал Сытный рынок, который, как писали в журнале «Русская старина», взял название от слова «сыта», обозначающего напиток из теплой воды с медом. Здесь, в харчевнях, с лотков и вразнос, торговали горячей едой, которую и запивали сытой. По другой версии, рынок был чем-то вроде современного фудкорта, сюда ходили насытиться, и даже прозвали в народе обжорным.
Особняк прима-балерины Матильды Кшесинской
После строительства Троицкого моста (о нем мы говорим подробно в главе про Петровскую набережную) Петроградская сторона становится престижной – вместо лачуг и старого рынка строят новые торговые ряды, спроектированные Марианом Лялевичем.
Жить в тишине и почти на природе буквально через мост от Дворцовой набережной мечтают многие, и среди них – известная балерина Матильда Кшесинская, ее дом стоит под номером № 1 по Кронверкскому проспекту.
Помимо того что это чудесный памятник модерна по проекту зодчего Александра фон Гогена – стоит поговорить и о скандальной личности Кшесинской.
Первая любовь наследника престола Ники была сильной и экстравагантной женщиной. Кажется, она всегда знала, чего хотела, и этого добивалась, сумела войти в историю как роковая красавица, влюбившая в себя сразу нескольких великих князей. Сначала она была сожительницей Сергея Михайловича, а затем стала женой великого князя Андрея Владимировича.
Матильда оставила дневники с воспоминаниями о своей жизни, там она описывает и свое знакомство с семейством Романовых. Произошло оно в 1890 году, когда экзамены Императорского театрального училища посетили император Александр III и цесаревич Николай Александрович. Сам император подсадил за стол к цесаревичу юную 17-летнюю балерину Матильду, которой место за столом вовсе не полагалось. Кокетливая Кшесинская пишет в мемуарах, что мгновенно влюбилась в голубоглазого Ники. Спустя почти два года, после череды случайных встреч, между ними вспыхнул роман. Кшесинская решила переехать от родителей в отдельный особняк, причем выбрала дом на Английском проспекте (тот самый, где раньше дядя Александра III, Константин Николаевич, жил со своей гражданской женой, балериной Кузнецовой). Новоселье возлюбленный отметил необычным подарком и вручил Матильде «восемь золотых, украшенных драгоценными камнями чарок для водки». Николай часто бывал в особняке вместе со своими друзьями детства великими князьями Александром и Сергеем Михайловичами. Роман с цесаревичем длился недолго – вскоре Ники был помолвлен с будущей императрицей Александрой Фёдоровной и порвал отношения с балериной. В своем последнем письме к ней Николай Романов писал, что их встреча останется самым светлым воспоминанием его молодости. Уже в 1900-м году у Матильды начались отношения с еще одним представителем семьи Романовых – великим князем Андреем, он был почти на 7 лет младше балерины.