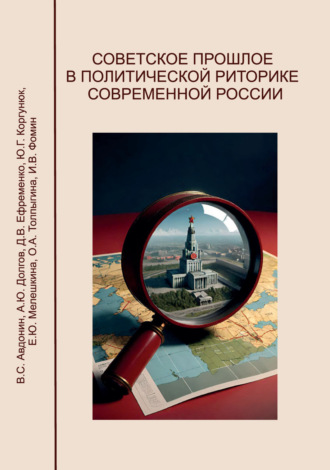
Полная версия
Советское прошлое в политической риторике современной России
3. Роль ностальгии и травмирующих событий при апелляции к прошлому в условиях «коннективного поворота»
Во многом такое использование элементов идеократического метанарратива базируется на широко изучаемом в последнее время феномене ностальгии, которая используется мнемоническими акторами для создания образов прошлого[6].
В качестве одной из важных характеристик ностальгии исследователи выделяют ее селективность, предполагающую обращение лишь к отдельным положительным фрагментам действительности. С помощью объединения их в одну картинку создается «позитивная, прекрасная история о прошлом (“память минус боль”), которого никогда в таком виде не существовало» [Velikonja, 2009, p. 161]. Иными словами, основными чертами ностальгического дискурса являются комплиментарность и эпизодичность создаваемого образа прошлого [Velikonja, 2008, p. 28]. Такие особенности ностальгического образа прошлого вполне объяснимы тем, что контуры коллективной памяти определяются прагматической рефлексией «лидеров памяти» или мнемонических акторов, которые используют созданные на основе фрагментарного восприятия действительности образы для завоевания общественной поддержки. Отдельные фрагменты (социальная защищенность, стабильность, успехи в культуре и спорте и т. д.) извлекаются из контекста и соединяются между собой в позитивный образ без учета этого контекста. Прагматическими соображениями и отсутствием отсылок к контексту объясняются и другие особенности ностальгии – вневременность и экстерриториальность [Velikonja, 2008, p. 28]. Поскольку ностальгические образы формируют конкретные «мнемонические акторы», действующие в конкретных условиях, в том числе в условиях конфликта интересов, ностальгия по прошлому отличается также многозначностью и наличием конфликтных нарративов [Velikonja, 2008, p. 28]. Похожим способом характеризуются и антиностальгические образы.
Ностальгические воспоминания о прошлом далеко не всегда свидетельствуют о желании это прошлое вернуть. В то же время их носители с помощью ностальгических образов могут стремиться наполнить современный мир позитивными элементами прошлого [Todorova, 2009]. Подобные запросы особенно актуализируются под влиянием быстрых изменений в период социально-политических трансформаций. Причем они свойственны людям разных поколений, в том числе молодежи, не имеющей личного опыта жизни в определенном периоде прошлого.
Помимо ностальгических воспоминаний использованию прошлого в качестве инструмента конструирования настоящего способствуют воспоминания о травмирующих событиях прошлого. В последние десятилетия, по замечанию А. Пинчевского, дискуссии о памяти идут в основном в двух направлениях: с одной стороны, возрастает интерес к опосредованной памяти, то есть «различным формам, с помощью которых память формируется и распространяется посредством медиатехнологий»; с другой – существует неугасающий интерес к травматической памяти [Pinchevski, 2011, p. 253]. Понятие травмы остается востребованным и в социальных исследованиях.
Социологический взгляд на травму, в отличие от психологического, демонстрирует, что события, какими бы драматичными и ужасными они ни были, сами по себе не травмируют. Статус травмирующих они приобретают после того, как общество или его отдельные группы припишут им соответствующие смыслы [Александер, 2012]. Существуют даже специальные мнемонические акторы, гражданская активность которых направлена на формирование нового нарратива памяти и уникального репертуара коммеморативных практик вокруг травмы [Gutman, 2017]. Речь идет о мемори-активизме, который в российском контексте является негосударственным актором, создающим и транслирующим альтернативный дискурс о «трудном» советском прошлом, в первую очередь о периоде репрессий. Порой мемори-активисты создают нарративы о травмирующих событиях прошлого, противоречащие официальной трактовке, что в некоторых политических условиях не только формирует основы для конкуренции на символическом поле, но и влечет за собой применение насильственных мер в отношении организаций мемори-активизма в целях контроля и ограничения этой конкуренции
Таким образом, травма конструируется, она не статична и сопровождается противоборством социальных групп и продвигаемых ими смыслов. Конечно же, в качестве инструмента в этом противоборстве широко используются медиатехнологии[7], которые не только позволяют создавать и хранить индивидуальные «опосредованные» («медиализованные)» воспоминания[8] в письмах, дневниках, фотографиях, видеозаписях, но благодаря всеохватной цифровизации и широкому доступу к Сети выводят их на публичный уровень, где индивидуальное встречается, взаимодействует и конфликтует с коллективным [Van, 2007, p. 1].
Изучение влияния этого процесса на трансформацию памяти и появление новых способов ее описания обозначено в исследованиях как «коннективный поворот» (connective turn) [Hoskins, 2011a; Hoskins, 2011b], под которым понимается «резкий рост количества, повсеместное распространение и моментальность цифровых медиа, коммуникационных сетей и архивов» [Hoskins, 2018]. Этот поворот, отмечает Э. Хоскинс, приводит к онтологическому сдвигу в понимании того, что такое память и как она действует. Он перестраивает память, освобождая ее от традиционных границ – архивов, организаций, институтов, привязанных к определенному пространству. Он открывает новые способы работы с прошлым, «одновременно лишает свободы и освобождает активное человеческое запоминание и забывание» [Hoskins, 2018].
При этом медиа и память нельзя отделить друг от друга: медиа «усиливают, искажают, расширяют, подменяют память» и «изначально формируют наши личные воспоминания, оправдывая термин “опосредование”» [Van, 2007, p. 16].
Кроме того, медиа – это не просто технически опосредованные режимы хранения или архивирования воспоминаний. Они являются «живым» форматом функционирования и «отражают суггестивный характер переживания событий прошлого» [Зубанова, 2020].
Сближение памяти, медиа и коллективной травмы в общих исследовательских рамках открывает доступ к объемному полю феноменов и процессов и заставляет по-новому взглянуть на традиционные способы изучения восприятия прошлого. В контексте стремительного развития медиатехнологий понятие ностальгии также получает новые исследовательские описания [Niemeyer, Keightley, 2020; Kalinina, 2017; Kalinina, Menke, 2016; Lizardi, 2015]. Ностальгия активно распространяется и перевоплощается через медиа, выполняя при этом свои устоявшиеся функции, пытаясь «превратить историческое время в мифологическое пространство» [Бойм, 2013].
Таким образом, площадки, где встречаются индивидуальные и коллективные памяти о прошлом, где конструируются и распространяются образы прошлого, становятся более сложными и разнообразными. Их особенности влияют на процесс и эффекты использования прошлого для конструирования национальной идентичности.
4. Методологические основания исследования нарративов о советском прошлом, межпартийной дискуссии и образа советского прошлого в сознании граждан
Особенностью данного исследования является то, что в нем предпринята попытка рассмотреть феномен функционирования нарративов советского прошлого в текущей политике в самых разных аспектах и с самых разных сторон.
В частности, речь идет об охвате трех основных уровней (пластов) существования памяти о советском прошлом и ее использования: 1) в политической риторике на официальном и публичном уровне; 2) в межпартийной дискуссии, ведущейся во многом спонтанно, импровизационно и полемически заостренно и ориентированной на целевую аудиторию в лице потенциальных избирателей; 3) в сознании рядовых россиян – для того, чтобы понять, каким образом взаимодействуют эти три уровня.
При анализе дискурсов представителей органов власти и политических партий мы прежде всего опирались на категории, выработанные в рамках дискурс-исторического подхода.
Задача состояла в том, чтобы определить, в контексте каких макросемантических единиц (тем) и дискурсивных стратегий [Reisigl, Wodak, 2001, p. 44–46] представители органов власти и исследуемые партии задействуют отсылки к советскому прошлому.
При этом внимание акцентировалось на дискурсивных стратегиях двух видов: референциальных (дискурсивное конструирование социальных акторов, объектов, явлений, событий, процессов и действий через различные способы их именования) и предикации (атрибутирование позитивных или негативных характеристик социальным акторам, объектам, явлениям, событиям, процессам и действиям).
Таким образом искался ответ на вопрос о том, какие нарративы о советском прошлом используются в дискурсе исследуемых политических акторов и каких целей они позволяют достигать.
Мы исходили из того, что на специфику дискурсивных стратегий и нарративов влияют политический контекст и риторическая ситуация, поскольку участники коллективной делиберации взаимодействуют в пространстве политических суждений вне зависимости от того, являются ли они субъектами или объектами аргументации. Как отмечал Г.И. Мусихин, «контекст аргументации задается как формально зафиксированной регламентацией, так и неформальными ожиданиями аудитории, в основе которых могут лежать устойчивые культурные традиции и ситуативное стечение обстоятельств» [Мусихин, 2016, с. 78]. И, добавим от себя, неформальные правила политической игры.
Для учета воздействия контекста на представления о советском наследии использовался критический интерпретативный подход, базирующийся на трех допущениях. Первое заключается в особом значении условий (политических, социокультурных, дискурсивных), при которых социальная память «имеет значение», превращается в «общественное дело» [Brown, 2008; Campbell, 2008]. Это заставляет рассматривать социальную память как феномен относительный, понимаемый в терминах «взаимодействия разнообразных интересов и точек зрения» [Olick, 2007, p. 187–188].
Второе допущение состоит в том, что интерпретация и понимание недавнего прошлого (особенно наследия коммунизма) – предмет интереса в большей степени профессиональных исследователей, политиков и общественных деятелей, нежели рядовых граждан. Поэтому важно понять, как во взаимодействии между обычными людьми и малыми группами создаются, циркулируют и распространяются индивидуальные и коллективные смыслы. Поэтому исследование социальной памяти предполагает учет «состязательности» [Connolly, 1993] социальных и политических категорий, являющихся источниками дискуссий и морализаторства и имеющих разное значение для разных людей.
Третье допущение заключается в том, что исследование социальных феноменов предполагает признание напряжения между формальной, систематической идеологией и «живой» ее формой, представляющей собой совокупность повседневных практик создания и интерпретации смыслов [Ideological dilemmas, 1988]. Социальная память не только отражает или выражает «закрытую систему для разговоров о мире», но и артикулирует «противоположные темы, которые дают основу для дискуссии, аргументации и дилеммы» [Ideological dilemmas, 1988, p. 6]. Эти дискуссии и аргументы во многом определяют особенности создания, циркулирования и воспроизведения в обществе индивидуальных и социальных смыслов [Billig, 1996]. Поэтому исследование политической и социальной памяти предполагает изучение противоречий и совместного влияния формальных и «живых» (на уровне здравого смысла) представлений и форм знания [Andrews, 2007; Trust and…, 2004].
Принимая во внимание эти допущения, авторы монографии стремились отразить многообразие форм, задач и смыслового наполнения использования советского прошлого на различных уровнях жизни российского общества. Анализу подвергались как сам контекст (символическое и институциональное наследие, специфика политического режима и т. д.), влияющий на политику памяти и ее восприятие гражданами, так и символическая деятельность различных мнемонических акторов. Мы исходили из того, что повестку дня и в целом специфику дискуссий формируют не только находящиеся у власти политические силы, но и другие акторы. Однако в условиях ограниченной конкуренции и монополии на информацию, как в случае с Россией, провластные политические силы во многом определяют господствующий политический дискурс, формируя дозволенные для официальной оппозиции рамки символической «конкуренции». В тоже время официальная «оппозиция», разворачивая в этих рамках собственные нарративы, предлагает варианты трактовок настоящего и прошлого, которые также вносят вклад в формирование повестки дня и характера дискурса, а также потенциально могут быть альтернативой нынешнему официальному дискурсу и иметь риторический потенциал преодоления прошлого советского и имперского наследия.
Основное внимание в нашем исследовании мы сфокусировали на изучении риторики мнемонических акторов. При изучении политической риторики учитывались также такие влияющие на содержание текстов факторы, как, во-первых, специфика политической конъюнктуры и политического дискурса в стране в рассматриваемый период; во-вторых, конкретная политическая позиция, занимаемая акторами; в третьих, жанровое своеобразие текстов и индивидуальные особенности авторов.
При изучении памяти о советском прошлом на уровне межпартийной дискуссии (особенно в период избирательной кампании) в качестве методологического инструментария использовались концепция социально-политических размежеваний (cleavages) и теория проблемных измерений (issue dimensions), исходящих из того, что движителем политической жизни служат противостояния по существенным вопросам, структурирующие партийный спектр. Для понимания сути этих противостояний выявлялись вопросы (issues), порождающие наибольшую поляризацию в общественном сознании.
Определением таких вопросов автор соответствующей главы занимался на протяжении нескольких десятилетий, разработав собственную методику их количественного измерения[9]. Она заключается в следующем: позиции партий оцениваются по шкале от −5 до +5 (низшая оценка присваивается резко негативному отношению, высшая – апологетическому; если партия придерживается «центристской» позиции или не придерживается никакой, ставится ноль), а затем эти показатели подвергаются факторному анализу.
Обнаруженные факторы рассматриваются либо как политические измерения (если берется вся совокупность вопросов), либо как субизмерения, или противостояния по отдельным предметным областям – внутриполитической, социально-экономической, внешнеполитической, мировоззренческой. Вопросы советского прошлого, в частности, были отнесены к мировоззренческой области.
Эти политические измерения и субизмерения, а также размежевания по вопросам советского прошлого, также отдельно подвергнутые факторному анализу, посредством корреляционного анализа и множественной регрессии сопоставлялись с электоральными размежеваниями, представлявшими собой, по сути, факторы территориальных различий в партийном голосовании. Эти факторы, в свою очередь, выявлялись факторным анализом долей голосов, полученных партиями в различных территориальных единицах (в нашем случае – в субъектах Федерации).
Для исследования памяти о советском прошлом на уровне представлений рядовых россиян использовались глубинные интервью с жителями Москвы разных поколений (N = 15) и контент-анализ публикаций группы «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте» за 2021 г. (N = 100). При этом мы не стремились получить репрезентативную информацию. Для авторов соответствующих разделов монографии было важнее выявить репертуар мотивов и смыслов, возникающих у граждан при обращении к советскому прошлому.
Глубинные интервью имеют ряд преимуществ по сравнению с социологическими опросами[10]. В частности, они позволили более детально осветить смыслы, которые информанты вкладывают в советское прошлое, и связать эти смыслы с их жизненным опытом и особенностями социализации. С помощью гайда с вопросами о функциях СССР как государства, о повседневной жизни людей в СССР и о том, в каких формах сохраняется наследие СССР в современной России, была прослежена логика рассуждений информантов и выявлено общее и особенное в восприятии советского прошлого разными поколениями.
Социальные сети в данном исследовании описывались как арены, открытые и доступные многим акторам, которые действуют в более свободном дискурсивном поле, не ограничиваясь в своей активности доминирующими нарративами о прошлом. На примере онлайн-сообщества «Мы из СССР» было рассмотрено, как интернет-пользователи осмысляют прошлое, в том числе его травматичные и ностальгические моменты. По результатам анализа постов этой группы выделено 12 основных дискуссионных тем, через которые воспроизводится нарратив о культурной травме.
Использование различных методов и концепций позволило нам отчасти решить проблему триангуляции, то есть получить информацию об интересующей нас проблеме с помощью различных инструментов, что способствовало созданию более полной картины. Вместе с тем наша работа не претендует на всеохватность и полноту анализа, а скорее является приглашением к дальнейшим дискуссиям и исследованиям.
Глава II
Идеократический метанарратив в СССР и его влияние на постсоветскую макрополитическую идентичность[11]
Как уже отмечалось в предыдущей главе, анализ идеократических метанарративов, сформированных коммунистическими режимами, является важным инструментом изучения и осмысления политической риторики, характерной для эпохи посткоммунистических общественных трансформаций. На сегодняшний день наиболее обстоятельным и глубоким исследованием такого метанарратива является работа Г. Гилла [Gill, 2011], который уделяет особое внимание хрущевской оттепели как началу распада советского метанарратива, а также дальнейшим стадиям этого процесса вплоть до крушения СССР. Данная глава не претендует на полемику с подходом Гилла, но и не стремится к механическому воспроизведению его аргументов или предложенной им композиции анализируемых фактов. Мы исходим из допустимости сопоставления и сравнительного анализа различных идеократических метанарративов, тем более что задел для такого сравнения уже существует [Ефременко, Мелешкина, 2020]. Разумеется, реализация этого подхода на систематической основе пока остается делом будущего. Здесь же обращение к советскому метанарративу представляет собой обзор, предваряющий последующий анализ риторики о советском прошлом после 1991 г.
1. Становление советского метанарратива
Начальный этап экспансии политико-идеологического проекта российского (советского) коммунизма сопровождался предельно жестким разрывом с символическим наследием Российской империи, радикальность которого была обусловлена как остротой гражданского противостояния и конфронтации большевистского режима с внешними силами, так и крайними идеологическими установками вождей коммунистической партии – В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, Г.Е. Зиновьева и др. Среди этих установок особая роль принадлежала надеждам на триумф мировой революции, теоретически обоснованным еще Ф. Энгельсом в «Принципах коммунизма» (1847). Согласно Энгельсу, «коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии» [Энгельс, 1955, т. 4, с. 334].
Позднее Маркс и Энгельс развивали и уточняли эти представления. В частности, миссия мировой революции не ограничивалась уничтожением эксплуататорских классов, но состояла и в устранении с исторической арены «реакционных наций». Так, реагируя на венгерское восстание 1848–1849 гг., Энгельс давал такой прогноз: «При первом же победоносном восстании французского пролетариата, которое всеми силами старается вызвать Луи-Наполеон, австрийские немцы и мадьяры освободятся и кровавой местью отплатят славянским варварам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом» [Энгельс, 1957, т. 6, с. 186].
В 1915 г. В.И. Ленин пошел на определенную ревизию установок о мировой революции, заявив о возможности победы «социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране» [Ленин, 1969, т. 26, с. 354]. Ленинские идеи о неравномерности развития капитализма в эпоху империализма и о возможности прорыва слабого звена в цепи империалистических держав давали возможность объяснить феномен Октябрьской революции. Однако после 1917 г. Ленин и его соратники отчасти вернулись к прежней ортодоксии, считая перерастание русской революции в революцию европейскую делом ближайшей практической политики и определяя конкретные сроки этого международного революционного взрыва от нескольких дней до одного года, в зависимости от динамики социально-политической напряженности в странах Европы. Последний всплеск ожиданий непосредственного перехода к мировой революции относится к августу 1923 г., когда Политбюро ЦК РКП(б) и Коминтерн поддержали инициативу К. Радека по организации революционного восстания в Германии.
Парадоксальность процесса формирования советского метанарратива заключалась в том, что уже на начальном этапе интернациональный компонент, связанный с идеей мировой революции и присущей ей телеологией, переплетался с целым рядом компонентов национальной идентичности. Показательным примером может служить знаменитый декрет-воззвание Совета народных комиссаров «Социалистическое отечество в опасности!» от 21 февраля 1918 г., авторство которого, очевидно, принадлежит Л.Д. Троцкому [Гончарова, 1991]. Сам декрет, подготовленный в момент немецкого наступления на Петроград после провала брестских переговоров, был своеобразной калькой с декрета Национального собрания Франции от 11 июля 1792 г., начинавшегося словами «Граждане, Отечество в опасности!» («Citoyens, la Patrie est en danger!») и опубликованного в сходных обстоятельствах. Декрет 1792 г. выполнял мобилизационную роль, но одновременно являлся и актом нациестроительства. Используя термин Отечество, Троцкий в конечном счете апеллировал к родовой связи с предками, которые защищали определенную территорию, хотя и не мыслили ее в качестве «социалистического отечества». Для массовой аудитории, к которой обращался декрет СНК, были важны отсылки вовсе не к Французской революции, а к уже хорошо знакомой патриотической пропаганде периода Первой мировой войны. Две здравицы, завершающие декрет СНК («Да здравствует социалистическое Отечество! Да здравствует международная Социалистическая революция!»), как бы фиксировали дуализм национального и интернационального в конструируемом новой властью метанарративе.
Тот же дуализм был характерен и для так называемого ленинского плана монументальной пропаганды – развернутой программы мероприятий в области наглядной символической политики. Об этом свидетельствуют и состав установленных либо планировавшихся к установке объектов монументальной пропаганды, и агитационные тексты, выгравированные на досках и барельефах на общественных зданиях. Так, на правой части фасада здания Исторического музея была установлена доска с цитатой Фридриха Энгельса: «Уважение к древности есть несомненно один из признаков истинного просвещения». А совсем неподалеку, на здании Манежа, – барельеф с изречением Цицерона: «Когда Сократа спросили, откуда он родом, он сказал, что он гражданин всего мира, он считает себя жителем и гражданином вселенной»[12].
Ленинский план монументальной пропаганды можно рассматривать как первую попытку картирования мест памяти нового режима, предполагавшую «нанесение их на местность» с предварительной «расчисткой пространства», то есть сносом памятников старого режима. Несомненный интерес в этой программе представляет соотношение национального и интернационального. Так, из общего числа революционеров и общественных деятелей, которым предполагалось установить памятники (31), лишь 13 представляли русское революционное движение[13]. Тем самым применительно к революционным идеям и движениям ранняя большевистская топография памяти являлась поистине всемирной. Зато перечень деятелей культуры, философов и ученых был абсолютно «россиецентричным»: из 35 имен лишь Ф. Шопена можно отнести к представителям другой культуры (его молодость, впрочем, проходила в Царстве Польском, входившем в состав Российской империи); Т. Шевченко и Г. Сковорода, также включенные в этот перечень, – знаковые фигуры украинской культуры, теснейшим образом связанные, однако, с российским историко-культурным контекстом.
Гораздо более сложной задачей оказалось изменение паттернов исторической памяти, включая создание нового исторического нарратива, объясняющего революционные потрясения 1917 г. именно в контексте российской истории. В начале 1920-х годов решение этой задачи было предложено М.Н. Покровским, причем первые два тома его «Русской истории в самом сжатом очерке» получили горячее одобрение со стороны В.И. Ленина [Ленин, 1962, т. 52, с. 24]. При этом Покровский, по сути, выступил в качестве марксистского продолжателя «большого исторического нарратива», восходящего к карамзинской «Истории государства российского», и лишь попытался изменить его идеологическую валентность.



