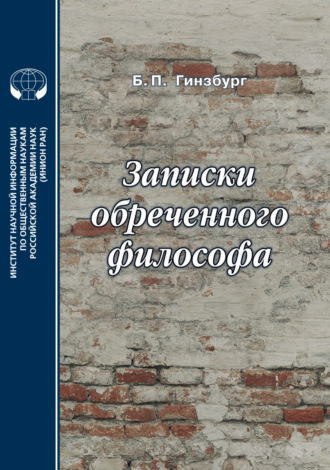
Полная версия
Записки обреченного философа
Само понятие существования кажется достаточно четким, чтобы фиксировать экзистенциальные высказывания, включающие нечеткие термины. Существование красных предметов, как и существование розовых, не становится неопределенным из-за нечеткости цветовых обозначений. Эта нечеткость вызывает алеаторику лишь в пограничных случаях, когда речь идет о существовании оттенков цвета, которые являются и розовыми, и красными, или красными и не красными. Мы можем испытывать серьезные трудности при проведении границы между чувствами и ощущениями, но эти трудности не повлияют на определенность вопроса о самом существовании чувств и ощущений. Поскольку онтология занимается проблемами существования основных категорий предметов, у нее есть шансы свести к минимуму алеаторику экзистенциальных высказываний.
Фиксированность теорий, однако, может практически сводиться на нет алеаторикой метатеорий. Мы уже отмечали роковую роль нечеткости понятий «объяснительная сила», «интуитивная приемлемость», «подтвержденность непосредственным наблюдением» в дискуссии об альтернативных онтологиях. Общеприемлемость критериев выбора теорий может обеспечиваться лишь их нейтральностью, «дотеоретичностью», независимостью от альтернативных уточнений. Метатеоретические критерии логичности, непротиворечивости, когерентности, рациональности, доказательности, эмпирической обоснованности, объяснительной силы, простоты, универсальности могут быть эксплицированы, но альтернативные экспликации являются в свою очередь спорными логическими и эпистемологическими концепциями, выбор между которыми требует применения все тех же критериев в их нейтральном, т. е. неуточненном виде. А значит – использования алеаторных метавысказываний, превращающих проблему выбора теорий в сверхразрешимую даже при фиксированности высказываний внутри самих теорий.
В сущности, это относится к выбору не только философских, но и научных теорий, если они рассматриваются именно как теории, а не просто как полезные формальные конструкции. Никто не сомневается в практической ценности классической математики или квантовой механики, но это не мешает научным оппонентам этих дисциплин рассматривать их как всего лишь полезные фикции или бессмысленные наборы символов. Научные проблемы являются точными и однозначно разрешимыми лишь как проблемы формальные наподобие шахматных задач. Как только речь заходит о познавательной ценности, осмысленности и истинности, проблемы превращаются в философские, и иллюзия точности и определенности моментально рассеивается. Философские понятия, как правило, заимствованы из обыденного языка или определяются в его терминах. Независимый философский новояз, сплошь составленный из «интенций», «трансценденций» и «апперцепций», можно представить себе лишь как неинтерпретированную формальную систему. И если подобные системы, разработанные в специальных науках, находят самые разнообразные практические приложения, от систем философских вне их содержательной интерпретации такого эффекта ожидать не приходится. Философия может претендовать на практическую значимость только через конкретные научные теории, реализующие ее идеи. Основная задача философствования – постижение реальности, объяснение мира, превращение непонятного в понятное. Последним словом здесь может быть лишь понятное, а значит – выразимое на простом и естественном языке. В конечном счете – на обыденном языке, с которым философия не может не считаться и от неопределенностей которого она не может полностью избавиться. Объяснение предполагает различение ясного и неясного, понятного и непонятного, очевидного и неочевидного, чудесного и нечудесного, и на примере онтологии мы уже сталкивались с неопределенностью подобных различений. Выбор между альтернативными объяснениями также предполагает в конечном счете использование интуитивных критериев, выразимых в естественном языке, и алеаторика здесь опять-таки неустранима. В онтологии эта «метаалеаторика» практически сводит на нет фиксированность самих экзистенциальных высказываний. Универсальные же высказывания, в отличие от экзистенциальных, непосредственно связаны с пограничными проблемами. То, что можно сказать обо всех А, обычно зависит от границ А, в то время как «существуют А» от них не зависит. Это уже отмечалось в связи с разграничением чувств и ощущений. Представим себе философа, отстаивающего тезис: «Все чувства делятся на положительные и отрицательные». Его оппоненты приводят как контрпример чувство удивления. Следует ответ: «Удивление – это не чувство в собственном смысле слова, это особое психическое состояние». Интуитивное понятие чувства не дает возможности разрешить спор, оно нечетко и допускает различные уточнения. Выбор между ними может быть только косвенным – через сравнение приемлемости психологических теорий, использующих альтернативные уточнения.
И здесь мы вместо нечеткости понятия «чувство» снова сталкиваемся с нечеткостью самих критериев выбора теорий.
Проблему экспликации понятий можно условно сравнить с проблемой уточнения оригинала нечеткого фотопортрета. На основе самого портрета проблему не решить, его нечеткость позволяет самые различные уточнения. Четкие фотографии похожих лиц здесь в равной степени пригодны. Вдобавок и косвенные свидетельства о том, кто, когда и кого отснял, могут оказаться неоднозначными. Например, если одновременно фотографировались близнецы, которых присутствовавшие при этом посторонние лица не в состоянии различить. Нефилософы всегда требовали от философов прямого и недвусмысленного ответа на вопросы типа «что такое?». Чтобы оправдать свой хлеб, представители философской профессии должны были четко и однозначно определить, что такое истина, добро, красота, счастье, любовь, справедливость. Но четкость и однозначность (т. е. единственность) определений несовместимы, так как сами исходные понятия нечетки и допускаются самые различные уточнения. И дело вовсе не в абстрактности и общности понятий. Столь же нечетки по смыслу самые простые наименования самых прозаических вещей в мире. Они, как и наименования оттенков цвета, являются уподобляющими, а не отождествляющими, и степень уподобления здесь столь же неопределенна. Мы отличаем людей от животных, деревья от камней и столы от стульев не потому, что знаем их непременные отличительные признаки, а потому, что при освоении языка знакомились с исходными образцами и дальше опирались на самое общее сходство с ними. Общее подобие, сходство в целом, без выделения частностей, признаков, критериев. Здесь перед нами уже не просто неопределенность градаций одного признака, как в понятиях красного, большого, тяжелого, а неопределенность самого набора признаков, на котором основано употребление слова. Мы можем, конечно, назвать типичные признаки человека – прямохождение, двуногость, отсутствие сплошного волосяного покрова, способность к труду, мышлению, речи и т. п. Но ни один из них не является обязательным: безумный человек для нас остается человеком, так же, как немой, безногий и безрукий. Философы в различных определениях человека также использовали признаки вроде способности к производству орудий труда, наличия сознания, разума и речи, но признаки эти интерпретировались как «типовые», «нормальные», «сущностные», т. е. логически необязательные. Более строгий подход к дефинициям означал бы, по существу, исключение из числа людей кого-то, обычно относимого к людям, и такого рода дискриминацию было бы трудно оправдать как в логическом, так и в нравственном отношении.
При достаточно четкой интуитивной очерченности объема обыденного понятия и неопределенности его содержания проблема реального определения становится чрезвычайно трудной. Такова, например, проблема определения знания в современной аналитической эпистемологии, практически зашедшая в тупик после обнаружения контрпримеров к традиционному определению знания как оправданной истиной веры.
Однако в большинстве случаев объем обыденных понятий является весьма неопределенным, и это создает возможность отклонения контрпримеров к определениям. Многое из того, что выставлено в галереях современного искусства, вызывает у посетителей сомнения в применимости к нему слова «искусство». Объем этого понятия является нечетким даже на уровне обыденного употребления слова. И это дает возможность философу, определяющему искусство в терминах прекрасного или отражения, отклонить модернистские контрпримеры как не относящиеся к искусству «в собственном смысле слова». Аналогично с определением религии как веры в бога, исключающим пограничный случай буддизма. Или позитивистскими определениями науки, исключающими пограничный случай метафизики.
Нечеткость смысла выражений естественного языка нередко означает и сверхразрешимость проблем, связанных с содержательной адекватностью определений и аналитичностью высказываний. Типичный пример – проблема связи долженствования и возможности, т. е. правомерности заключения от «он должен это сделать» и «он может это сделать». Условное высказывание, соответствующее этому заключению, не зависит от наблюдения фактов, его истинностное значение определяется только смыслом слов, но определяется неоднозначно. Это характерный пример алеаторно-аналитического высказывания.
Фиксированные аналитические высказывания могут превращаться в алеаторные при их логическом обращении. Никто не сомневается в том, что свобода означает отсутствие принуждения, но означает ли отсутствие принуждения свободу, не столь ясно, и интуиции здесь расходятся. Диагноз ясен и нефилософу: свобода и несвобода – «понятия растяжимые». Исходные образцы несвободы – простейшие примеры принуждения (удерживания, связывания, заключения). Но далее мы на основе интуитивного уподобления применяем термин сначала к ситуациям внутреннего принуждения (одержимости, внутренней зависимости), а затем – и к любым ситуациям, в которых различные препятствия мешают осуществить намерения. Так что возникает абстрактная возможность полного отрицания человеческой свободы, основанного на максимальном «растягивании» понятия несвободы. С другой стороны, философ, стремящийся совместить существование свободы с детерминизмом, может соответственно «сузить» объем понятия несвободы, ограничив его случаями внешнего принуждения.
Отстаиваемый философом тезис нередко используется как прокрустово ложе для объема понятий. Этот объем выбирается так, чтобы обеспечить истинность или по крайней мере правдоподобие тезиса. Применяются обе операции Прокруста: растягивание объема понятий и его сужение (в основном – отсечение пограничных контрпримеров). Алеаторика, связанная с нечеткостью объема и содержания исходных понятий, позволяет выработать своеобразную стратегию неуязвимости, когда философ, достигший семантической виртуозности, способен защищать самые неправдоподобные тезисы. Эта стратегия, однако, не является специфическим достоянием философии. Она выступает как развитие и усовершенствование «прокрустовых» операций обыденной аргументации. Когда девушка, например, настаивает, что любовь не бывает без ревности, а примеры неревнивой любви отклоняет как «ненастоящую» любовь. Или политик заявляет, что демократия немыслима без парламентаризма, а примеры непарламентарной демократии отклоняет как не имеющие отношения к «подлинной» демократии.
Поскольку реальные определения понятий, как правило, алеаторны, стремление к фиксации высказываний приводит к определениям номинальным, выступающим как условные соглашения об употреблении слов. «Прокрустизация» принимает форму аксиоматизации: философы склонны порой рассматривать постулаты своих теорий как неявные определения терминов. Вытесненная конвенциями из самих теорий, алеаторика возвращается на уровне метаязыка, ибо сравнение приемлемости альтернативных теорий – проблема реальная, а не номинальная.
Неустранимость алеаторики означает, в сущности, сверхразрешимость философских проблем – на теоретическом или метатеоретическом уровне. И это не свидетельство бессмысленности самих проблем или их решений. «Да и Нет» философов – там, где оно обусловлено неизбежной нечеткостью понятий, – в принципе не отличается от обыденного «да и нет», освященного здравым смыслом и внутренней логикой естественного языка.
Записки обреченного философа
Конец играм. Остался один год. Через год меня уже не будет. Этот стол будет, этот лист будет, а меня не будет. Как-то не доходит. Слова доходят, суть не доходит. Тянет в позу, это смешно, но не очень. Не смешно. Трудно собраться с мыслями.
Эскулапы морочили голову. Заключение консилиума мрачновато-неопределенное. Спасибо Марку – перевел на русский язык. Превратил заключение в два слова: «Один год». Зануда-отличник в школе. Теперь восходящее светило медицинской науки. Как коллега коллеге… не вправе утаивать… ученый должен завершить начатое… как мужчина мужчине… не за что… все там будем… с этой работой ко всему привыкаешь… И что-то еще, не припомню. Все логично. Оставалось лишь благодарить да кланяться. Он всегда был логичен. До омерзения. Никогда мы его не любили. И всегда недооценивали.
Вестник богов. Гермес-Эскулап. Глас судьбы. Диспут в общежитии: «Существует ли судьба?» Стоп, это уже бред. Не распускать слюни. Слюни-сопли. Путаясь в соплях, вошел мальчик. Это Ильф, наверное. Из «Записных книжек». Черт с ним, неважно. Не отвлекаться. «Стоически, как и подобает философу, встретил смерть с улыбкой на устах». С кисловатой улыбкой. Другой у меня не получится. Что я там находил в стоиках? Ничего в них нет. Декламация и поза. Не делай ни шагу без правил, но помни, что каждый твой шаг предопределен мирозданием. Как они умудрялись обрести безмятежность, «атараксию» в этой путанице? Может, и не обретали. Заговаривали, заборматывали себя и других. Нет, ты несправедлив к ним. Не в этом состоянии раздавать оценки. Только в этом состоянии и раздавать оценки. У кого это? У Блока? «Истинная ценность жизни и смерти определяется только тогда, когда дело доходит до жизни и до смерти. Нам до того и до другого далеко». Надо проверить. Сверка цитат. Не надо проверять. Блок простит. Теперь все это неважно. Что же важно? Страха смерти нет. Какая-то нервозность, внутренняя суетливость. Меняю внешнюю суетливость на внутреннюю. По договоренности. Договоренность со смертью. Фаустовский контракт с дьяволом. Душу заложу. За что? Не возьмешь мою душу живу! Полуживу. Душу полу-живу не за что заложить. «Ученый должен завершить начатое». Завершить. Закруглить. Оставить потомству. Оставить след. Наследить в истории. Не вдохновляет. В голове сумбур. Сегодня мне не собраться с мыслями.
* * *Нервозность моя, в сущности, ни на чем не основана. Ни физического страха смерти, ни жадной привязанности к жизни нет. Слепая сила инстинкта – жить во что бы то ни стало, даже если жизнь давно уже не в радость. И здесь мы не властны над собой. В чем же властны?
Год назад чуть не угодил под машину. Представил себя в реанимации. В морге. В крематории. Подумал, чего больше всего жаль. И мысль ни на чем не могла остановиться. В сущности, нечего терять. Нет ничего, что железной хваткой удерживало бы в жизни. Кроме автоматизма самой жизни, ежедневного беличьего колеса. Как у Толстого в «Исповеди»: «Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать». Сколько раз цитировал «Исповедь» студентам! Но как-то не всерьез, как будто смакуя самые эффектные места. И вот теперь, когда дело дошло до сути, голой сути, я ни черта не понимаю в этой самой «Исповеди». Почему Толстой так ужаснулся смерти, когда к жизни ничто уже не привязывало? Зачем ему понадобилась вера в бога и в бессмертие? Будда, разочаровавшись в жизни, боялся ее продолжения, а не окончания. Боялся бесконечной серии грядущих воплощений, даже самых блаженных и райских. Какие-то идиоты во времена Будды рекламировали его учение воплями: «Спасение от смерти найдено!» Тут бы возопить: «Спасение от жизни найдено!»
Ночью не спалось, и в памяти всплыло недолгое мое увлечение проблемой бессмертия, биологической его возможности. Тогда мне казалось удивительной слепотой нежелание людей понять, что это единственная проблема. Нужно все бросить и всем навалиться на эту Проблему, а уж когда обеспечим себе вечность, можно будет баловаться пустяками. Беспечность людей перед лицом неминуемой смерти казалась мне вопиющим недомыслием. Мелькала, помню, и эгоистичная мыслишка, нельзя ли все это провернуть, пока я сам не дал дуба. Растянуть оставшиеся годы с помощью умеренности, физкультуры, мудрой диеты, а там, глядишь, наука что-нибудь придумает, сначала, конечно, для немногих, и надо попасть в число этих немногих, выбиться в круг избранных, элиту бессмертных.
Но прошло несколько лет, и я уже не знал, зачем мне нужно не то что бессмертие, но и самое обычное долголетие. Зачем все тянуть и тянуть эту резину. Последние годы жил механически, в каком-то полусне. Ничего не ожидая и ни о чем не жалея. Чего же теперь-то вскинулся? Какой петух клюнул? Что мне этот год? И какая разница – год, месяц, день? Тотальная мобилизация! Свистать всех наверх! Напрягся, как на краю пропасти, нервы натянуты, сердчишко стучит прямо в ушах, умишко мечется, цитатки роятся в машинной памяти. Парад алле! Буря в стакане воды!
Нет, голубчик, здесь не отшутишься. Смерти нет дела до твоих счетов с жизнью. У нее свой счет. Последний и неотразимый. Она крушит заслоны цитат, уловок, силлогизмов. Она требует тебя всего целиком, голеньким, жалким, беспомощным. Не сумевшим толком прожить, не знающим, как умереть. Страх смерти? Нет, вызов смерти! Вызов, требующий ответа. Прямого, без обиняков. Как жил? Чем жил? Жил ли? Вот он, страшный суд, здесь, а не на небесах. И ты сам – судья и ответчик, палач и жертва.
Философствовать – значит учиться умирать. Так нам долбили Платоны, Цицероны, Монтени. Черта с два! Наоборот: умирать – значит учиться философствовать. Значит впервые начать мыслить. Впервые начать жить. Впервые осознать все, что мелькало в туманном похмелье жизни. Очнуться от многолетней спячки. От летаргии «жизни, как она есть». Как она есть! Как ее нет! И не было, кроме детства. Вот тогда жил! Жил как перед смертью – широко разинув рот, глаза, уши, душу. Умирать – значит родиться заново. Значит, начать все с нуля. Смерть – это жизнь. До нее – только существование, сонное прозябание. Смерть – последний мой шанс. Пинок Господа Бога в косную мою задницу. Может, я – счастливчик. Избранник судьбы, любимец богов. Мне дан шанс вытащить себя за ворот из болота, как Мюнхгаузену. Страх смерти, слепой инстинкт, животный порыв? Пусть так. Неважно. Важно лишь пробуждение, обновление, возрождение. Фрейд сказал бы, что я собираюсь сублимировать страх и оседлать Танатоса как Пегаса. Правильно, Фрейдюша, правильно, милый. Смейся надо мной, смейся со мной, мне так вдруг полегчало, дурачку. Надолго ли? Всё кидает из хлада в пламень и снова в стужу. Лихорадка юродивого.
* * *Сегодня уже не могу понять вчерашний подъем. Энтузиазма никакого, и непостижимо, откуда он взялся. В мозгу холодный логический перебор вариантов, ревизия ресурсов. Что осталось в загашнике? На что можно опереться? Философ-профессионал, вроде бы и карты в руки, но что за карты? Какими любимыми цитатками побьешь козыри смерти? Торо сетовал, что профессоров философии навалом, а философов нет. Был ли я когда-нибудь философом? Думал ли о жизни всерьез? Но не во мне одном дело. Вряд ли коллеги по профессии оказались бы на моем месте в лучшем положении. «Философия – не помощь». Ромео (то бишь У. Шекспир) это уже знал. А я лишь начинаю постигать. Вспомнился безнадежно больной Гейне. Его желчный вызов философии:
«Брось свои иносказаньяИ гипотезы пустые!На проклятые вопросыДай ответы нам прямые».Весь этот хрестоматийный арсенал в башке моей сейчас высвечивается по-иному. Сегодня даже напевал на какой-то игривый мотивчик гётевскую рекламу книготорговца: «Люди! Спешите узнать, для чего вы живете на свете! Ключ к этой тайне продам ровно за десять грошей». От дурачества этого перешел вдруг к нанизыванию цитат, цепляя слово за слово, мысль за мысль.
«Мы стали богатыми в познаниях, но бедными в мудрости».
(К. Юнг)«Немногому могут научить мудрецы наши».
(Ф.М. Достоевский)«Эта претензия философов на мудрость, встречаемая иногда на земле, безумнейшая и наглейшая из всех претензий».
(Ф. Ницше)«Что мудрость, коли счастья не может дать она?»
(Еврипид)Цитатки-изюминки, старое доброе средство спасти студентов от скуки! Среди них я наталкивался на мысли, казавшиеся соломинкой утопающему. «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия». Может быть, Паскаль прав? Может, мне надо отбросить то, чему всю жизнь учился, забыть обо всем, начать с нуля? Легко сказать – с нуля! И что я рожу с нуля? Я вообще уже не в том возрасте, когда что-либо рожают. Бесплодие. Кто-то уже объявлял его позором философии. Сравнивал с позором бесплодной женщины на Востоке. Ницше? Нет, Кьеркегор. Молчание философии в ответ на вопрос «Что делать человеку? Как жить?» казалось ему уничтожающим доводом против нее самой.
Хорошенькое молчание! Оглохнуть можно. Сотни и тысячи рецептов жизни, правил мудрости, бальзамов для души. Кьеркегор, правда, сравнивал философские учения о жизни с вывесками на толкучке «Стирка белья». Притащишь белье, – а это, оказывается, всего лишь вывеска для продажи. Ворчун Рассел бубнил, что философия всегда, с самой древности имела больше притязаний и меньше результатов, чем любая другая область знания. Он имел в виду результаты надежные, доказанные, общезначимые. Но мне сейчас наплевать на доказательства, обоснования, споры и разногласия. Я утопающий. Согласен и на соломинку. Не претендую на «столп и утверждение истины». Ницше где-то предупреждал, что даже вынырнуть и очнуться на мгновение мы не можем собственными силами, нас должен поднять кто-нибудь из тех подлинных людей, которые уже не звери. Это философы, художники и святые. Где они? Где Соломоны, чудесами мудрости привлекающие толпы людей со всех концов света? Куда они подевались? В каких Гарвардах их искать?
И что дошло до нас из мудрости Соломонов и Будд? Почти ничего, кроме отрицания жизни как тщеты и суеты. Толстой был поражен пессимизмом философской мудрости, – в период душевного кризиса он не нашел в ней помощи и поддержки. И утопая, ухватился за мужицкую веру в бога. Но мужиком не стал и подлинной веры так и не обрел. Вера в бога и бессмертие – лекарство от страха смерти. Но этот страх – лишь один из тяжких недугов графа. Он страдал и от пресыщения жизнью, доходящего до отвращения к жизни. Казалось бы, надоело жить – чего ж тут бояться смерти? Но страх смерти иррационален, это, в сущности, биологический страх, и он обретает новую силу, когда шум жизни перестает его заглушать. Толстой не нуждался в райском блаженстве, он бы с него зачах. Ему нужны были две вещи – избавление от страха смерти и избавление от пустоты жизни. Помогла ему не сама вера, а обновление жизни, с нею связанное. Толстой, как и все мы, нуждался не столько в «спасении», сколько в обновлении, перерождении. Человек, утративший аппетит, мечтает о его восстановлении, а не о вечной непрекращающейся трапезе. Тем более – аппетит к жизни.
Ницше определял философию как инстинкт к диете. Преодоление всеядности, укрощение страстей, самоограничение, строгий выбор в жизненной трапезе – почти синонимы философского отношения к жизни. Шопенгауэр отмечал, что философия не дала ему никаких доходов, но избавила от многих трат. Философия как диета является скорее ограничением числа блюд, чем творением новых. Переоценка ценностей, о которой трубят со времен Диогена, свелась в основном к их уценке. Уже Кратет Фиванский сделал определением философии презрение ко всем привычным человеческим ценностям. «По торным тропам не ходить!» Завет-запрет Пифагора. На деле он привел к выбору узких тропинок, а не прокладыванию новых. Кто серьезно верит сегодня прорицанию Ницше: «Есть тысячи троп, которые еще никогда не пройдены, тысячи здоровых сил и скрытых островов жизни. Не исчерпаны и не открыты человек и земля человека»?
Толстой, этот титан, творческой силой бросавший вызов творцу, избирает для обновления жизни самую торную из троп – христианское самоотречение. И мучается до конца дней, – не для него тропа эта. Но ничего лучшего не видит, не находит. Его пример меня добивает, иссякает вера в изобретательность узника, загнанного в тупик жизни. Мне ли, муравью, из этого тупика выбраться? Способности моего интеллекта – чисто аналитические, в лучшем случае комбинаторные. Я не творец. Лихтенберг – то ли в шутку, то ли всерьез – утверждал, что из различных инстинктов человека можно было бы, как из шахматных фигур, скомбинировать лучшую жизнь. Я уже не верю в комбинаторику. Без обновления инстинктов не представляю обновления жизни. Но что за химера – обновление инстинктов? Сменить кожу, как змея? Переделать саму природу – свою собственную и человеческую натуру вообще? Хватит прожектов, голова разламывается.
Чего я, собственно, добиваюсь? Что мне нужно от этого года? Наверстать все упущенное? Но это просто смешно. Говорят, есть мгновения, равные вечности. И за год настоящей жизни можно отдать десятилетия. Но чего я, собственно, не добрал? Что мне наверстывать? Кого догонять? Что упущено? Упущена жизнь. Это ясно каждому умирающему. Толстовский Иван Ильич вроде бы понял, почему упущена, – не было любви к людям – христианской, всеобъемлющей, переполняющей душу. Но вытащи его врачи с того света, вытяни за ноги из черной дыры, в которую затягивала его смерть, – и он не смог бы удержать в себе это чувство любви, его остроту, пронзительность, глубину, он бы только твердил себе, как попугай (как сам Толстой, – простите, граф, обреченного): «Надо любить людей, надо любить людей, надо любить людей…»

