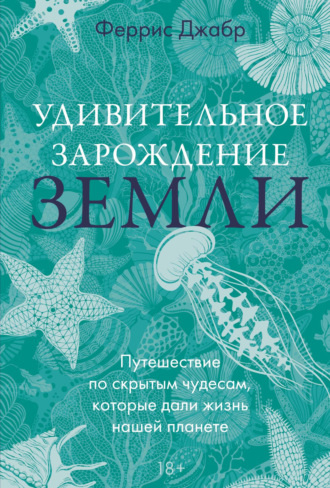
Полная версия
Удивительное зарождение Земли. Путешествие по скрытым чудесам, которые дали жизнь нашей планете
Как писала Линн Маргулис, одушевленная Земля «возникает в результате взаимодействия между организмами, той планетой, на которой они обитают, и источником энергии – Солнцем». В этом смысле музыка представляет собой похожий феномен: ее нельзя свести к нотам на бумаге, форме инструмента или ловким движениям рук музыканта – она возникает в результате взаимодействия всех этих элементов. Когда ноты звучат в правильной последовательности и сочетаются с другими нотами, то мы слышим уже не просто звуки, а музыку. Это же происходит и с живой сущностью под названием Земля: она возникает в результате сложнейших взаимодействий, взаимной трансформации организмов и окружающей среды.
Первые полмиллиарда лет своего существования наша планета была не более чем геологическим явлением. Когда первые живые существа приспособились к первозданным же особенностям и ритмам планеты, они начали взаимодействовать с ними и менять друг друга. С тех пор биология и геология, одушевленное и неодушевленное, находятся в вечном и бесконечно усложняющемся дуэте. На протяжении веков, несмотря на постоянные потрясения, Земля и ее жизненные формы находили глубинную гармонию: они регулировали климат планеты, выверяли химический состав атмосферы и океана, поддерживали круговорот воды, воздуха и жизненно важных питательных веществ в многочисленных слоях планеты. Извержения мегавулканов, падение астероидов, исчезновение морей и другие невообразимые катастрофы много раз опустошали планету, нарушая давно устоявшиеся порядки и наводя смятения. Однако из раза в раз наша живая планета демонстрирует удивительную жизнеспособность – умение возродиться после разрушительных катаклизмов и найти новые формы экологического совместного звучания.
Когда мы научимся рассматривать себя как часть чего-то гораздо более масштабного, – как часть планетарного целого, – мы наконец-то сможем осознать нашу ответственность перед Землей. Деятельность человека не просто повысила температуру планеты или «нанесла вред окружающей среде», она всерьез нарушила равновесие самого большого из известных нам живых существ и погрузила его в состояние кризиса. Скорость и масштабы этого кризиса настолько велики, что, если мы не вмешаемся, Земле потребуется от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет, чтобы полностью восстановиться самостоятельно. В ходе этого процесса она превратится в мир, не похожий ни на один из известных нам, – в мир, не совмеситимый с современной человеческой цивилизацией и экосистемами, от которых мы сейчас зависим.
Человеческий род уникален тем, что способен изучать систему Земли в целом и целенаправленно изменять ее. Однако было бы высокомерно пытаться полностью контролировать столь сложную систему. Вместо этого мы должны признать несоразмерность нашего влияния на планету и смириться с ограниченностью наших возможностей. Самая важная задача очевидна: чтобы предотвратить наихудшие последствия климатического кризиса, обеспеченные индустриальные и постиндустриальные страны должны возглавить общечеловеческие усилия и в самое ближайшее время заменить ископаемое топливо чистой и возобновляемой энергией. Наука о земных системах подчеркивает важность комплексного подхода. Наша планета выработала множество способов хранения углерода и регулирования климата. За последние несколько столетий океаны и континенты, а также их экосистемы поглотили большую часть произведенных человечеством выбросов парниковых газов. Если мы будем защищать и восстанавливать леса, степи и болота Земли, ее подводные луга, ложе океана и рифы, мы поможем процессам, которые стабилизируют планету, и сохраним сложившуюся за многие века экологическую систему.
Эта книга – исследование того, как живые существа изменили нашу планету, размышление о том, что значит сказать: «Земля жива», – и ода той замечательной экологической системе, что поддерживает существование нашего мира. Это книга о том, как планета стала той Землей, которую мы знаем, как она стремительно превращается в совсем другой мир и как мы – те, кто живет в этот решающий для истории планеты момент, – в конечном итоге сыграем определяющую роль в том, какую Землю унаследуют наши потомки на ближайшие тысячелетия.
Три раздела книги – «Камень», «Вода» и «Воздух» – посвящены трем основным элементам планеты и трем ее основным сферам: литосфере, гидросфере и атмосфере. Их порядок отражает их относительный объем: по массе Земля содержит гораздо больше горных пород, чем воды, и значительно больше воды, чем воздуха. Каждый раздел состоит из трех глав, в первой из которых мы рассмотрим, как микробы, самые древние и маленькие организмы Земли, изменили тот или иной слой планеты. Вторая глава каждого раздела посвящена ключевым преобразованиям, вызванным более крупными и сложными формами жизни – грибами, растениями и животными, – и тому, как эти изменения зависят от тех, что произошли ранее. В третьей главе мы узнаем, как быстро человечество изменило Землю за относительно короткий срок, и выясним, какие есть наилучшие способы восстановления гармоничных отношений людей с планетой.
Наше путешествие начнется в глубинах земной коры, но постепенно мы будем пробираться наружу, блуждая по континентам и погружаясь в водные просторы планеты, чтобы наконец достигнуть самой неосязаемой из трех сфер – воздушной оболочки, простирающейся над нами более чем на почти 10 000 километров. По пути мы проплывем через подводные леса, посетим экспериментальный природный парк, где животные восстанавливают ландшафт, и поднимемся в обсерваторию, расположенную на полпути между верхушками деревьев и облаками.
Мы познакомимся с самыми разными людьми – учеными, художниками и изобретателями, пожарными, исследователями пещер и бичкомберами[14], – многие из которых посвятили свою жизнь изучению и защите нашего живого дома. Мы совершим путешествие в прошлое, чтобы узнать о самых значимых событиях в истории Земли, насчитывающей 4,54 миллиарда лет, и представить себе ее возможное будущее. Наконец, мы научимся распознавать отпечаток жизни в каждом уголке планеты – от сердца тропического леса Амазонии до почвы на заднем дворе вашего дома.
Камень
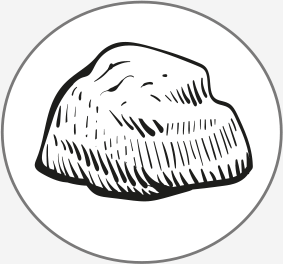
1. Жизнь в недрах Земли. Как подземные микробы изменяют земную кору
Поверхность Земли полна пор, и каждая пора – это портал в ее внутренний мир. Некоторые из них подойдут лишь для насекомого, другие могут вместить и слона. Одни ведут в небольшие пещеры или неглубокие расщелины, а другие простираются в неизведанные глубины скалистых недр Земли. Любому человеку, который пытается добраться до центра нашей планеты, нужен особый проход: не только достаточно широкий, но и чрезвычайно глубокий, полностью надежный, а в идеале – оборудованный лифтом.
Один из таких порталов находится в центре Северной Америки. Воронкообразный карьер шириной около 800 метров уходит в землю на 381 метр, обнажая разноцветную мозаику из молодых и древних пород: серые полосы базальта, молочные прожилки кварца, бледные колонны риолита и мерцающие вкрапления золота. Под карьером сквозь твердую породу проходят около 595 километров туннелей, уходящих более чем на два километра под землю. В течение 126 лет на этом месте в городе Лид штата Южная Дакота находился самый большой, глубокий и богатый золотой рудник Северной Америки. К моменту его закрытия в начале 2000-х годов на шахте Хоумстейк было добыто более 907 тонн золота.
В 2006 году корпорация Barrick Gold передала рудник в дар штату Южная Дакота, который в итоге превратил ее в крупнейшую в США подземную лабораторию – Подземный исследовательский центр Сэнфорда (Sanford Underground Research Facility). После прекращения добычи полезных ископаемых туннели начало затапливать. Хотя нижняя половина объекта остается затопленной, по нему все еще возможно спуститься почти на полтора километра под землю. В большинстве своем так делают ученые – физики, которым необходимо провести высокочувствительные эксперименты, на которые не должно повлиять космическое излучение. Но пока физики облачаются в лабораторные костюмы и закрываются в отполированных лабораториях, оборудованных детекторами темной материи, биологи, которые отправляются в этот подземный лабиринт, выискивают его самые сырые и грязные уголки – те самые места, где странные существа выделяют металл и меняют облик камней.
Промозглым декабрьским утром я последовал за тремя молодыми учеными и группой сотрудников Сэнфорда в так называемую «клетку» – металлический лифт, который доставит нас на глубину около полутора километров. Мы надели неоновые жилеты, ботинки со стальными носами, каски и пристегнули к поясам личные противогазы, которые должны были защитить нас от угарного газа в случае пожара или взрыва. Клетка спускалась быстро и удивительно плавно, ее открытая рама являла взгляду множество уровней шахты. Наша праздная болтовня и смех были едва ли слышны сквозь шум разматывающихся кабелей и свист воздуха. Контролируемый спуск занял около десяти минут, и мы достигли дна шахты.
Два наших гида, оба бывшие шахтеры, посадили нас в пару небольших вагонеток и повезли по узким туннелям. Вагоны ехали вперед со звуком, похожим на скрежет тяжелых металлических цепей, а свет наших фонарей освещал изгибающиеся стены из темного камня, усеянного кварцевыми прожилками и вкраплениями серебра. Под нами мелькали старые рельсы, неглубокие полоски воды и обломки камней. Хотя я знал, что мы находимся глубоко под землей, туннели как шоры ограничивали мой обзор узким сводом скалы. Глядя на потолок туннеля, я думал о том, каково это было бы – увидеть над собой всю толщу земной коры, всю груду камней высотой в три с лишним раза больше Эмпайр-стейт-билдинг[15]. Ощущали бы мы эту глубину так, как порой ощущается высота, когда смотришь на край обрыва? Чувствуя приступ головокружения, я быстро перевел взгляд на дорогу перед собой.
Через 20 минут мы переместились из относительно прохладного и хорошо проветриваемого участка рядом с «клеткой» в нагревающийся и душный коридор. В то время как на поверхности лежал снег и температура была значительно ниже нуля, на расстоянии полтора километра под Землей, ближе к ее геотермальному сердцу, температура достигала около 33 °C, а влажность – почти 100 %. Мы чувствовали, что тепло пульсирует в окружающем нас камне; воздух стал густым и тягучим, а в ноздри проникал запах серы. Казалось, что мы вошли в преддверие ада.
Вагонетки остановились. Мы вышли и немного прошли до большого пластикового крана в скале. Рядом с основанием крана со стены стекала жемчужная струйка воды, образуя ручейки и лужицы. От них исходил запах сероводорода – источник зловония в шахте. Встав на колени, я понял, что вода полна волокнистой белой субстанции, несколько напоминающей «кожицу» яйца пашот. Кейтлин Казар, геобиолог, объяснила, что эти белые волокна – микробы из рода Thiothrix, которые соединяются друг с другом в длинные нити и накапливают в своих клетках серу, что придает им призрачный оттенок. Здесь, в толще земной коры, в месте, где без вмешательства человека не было бы ни света, ни кислорода, жизнь тем не менее буквально хлестала из самой каменной породы. Этот особый природный очаг получил прозвище «Водопад Thiothrix».
Пока я осторожно прощупывал нити микробов ручкой, биогеохимик Бриттани Крюгер открыла один из нескольких вентилей на кране и начала проводить разнообразные тесты с вытекающей из него жидкостью. Всего-навсего капнув немного воды в голубой портативный прибор, напоминающий трикодер из фильма «Звездный путь» (Star Trek), Крюгер измерила кислотность, температуру и состав раствора. Чтобы собрать обитающие в воде микроорганизмы, она закрепила на некоторых клапанах крана фильтры с крошечными порами. Тем временем Казар и инженер-эколог Фабрицио Сабба изучили ряд наполненных образцами картриджей, ранее подсоединенных к крану. В лаборатории они проанализируют их, чтобы выяснить, попали ли микробы в трубы и выжили ли они в них, несмотря на полную темноту, отсутствие питательных веществ и пригодной для дыхания атмосферы.
Спустившись на другой уровень шахты, мы были вынуждены пробираться сквозь грязь и воду высотой по голень, осторожно ступая, чтобы не споткнуться о затопленные рельсы и камни. То тут, то там поверхность горных пород была украшена тонкими белыми кристаллами – как подсказали ученые, скорее всего, это был или гипс, или кальцит. Когда свет от наших фонарей попадал на стены туннеля под правильным углом, кристаллы мерцали подобно звездам. Еще одно 20-минутное путешествие, на этот раз пешком, и мы подошли к еще одному большому крану, торчащему из скалы. В этой пещере было намного прохладнее, чем в предыдущей, но и находилась она на глубине всего 800 метров под землей, а значит, лучше проветривалась. Скала вокруг крана была покрыта чем-то похожим на влажную глину, цвет которой варьировался от бледно-лососевого до кирпично-красного. Как объяснила Казар, это тоже работа микробов, на этот раз бактерий из рода Gallionella, живущих в богатых железом водах и в процессе жизнедеятельности выделяющих железо в виде закрученных тяжей. По просьбе Казар я наполнил кувшин водой из крана, зачерпнул в пластиковые пробирки богатую микробами грязь и убрал их в холодильник для последующего анализа.
На протяжении многих лет Крюгер и Казар посещают бывшую шахту Хоумстейк по меньшей мере дважды в год. Возвращаясь, они каждый раз сталкиваются с прежде неизвестными микробами, которые им никогда не удавалось вырастить в лабораторных условиях, а также с видами, у которых еще нет имени. Их исследования – часть совместного проекта под руководством Магдалены Осберн, профессора Северо-Западного университета и видного представителя геомикробиологии.
Как показали Осберн и ее коллеги, вопреки старым догадкам, недра Земли вовсе не бесплодны. На самом деле большинство микробов планеты, возможно, более 90 %, живут глубоко под землей. Эти внутриземные микробы, как правило, сильно отличаются от своих собратьев, обитающих на поверхности. Они древние и медлительные, редко размножаются и, вероятно, живут миллионы лет. Их способ получения энергии необычен: вместо кислорода они дышат… камнем. И, похоже, они способны выжить, даже несмотря на опасные для большинства существ геологические катаклизмы. Подобно множеству крошечных организмов в океане и атмосфере, эти особые микробы не просто населяют земную кору, а изменяют ее. Подземные микробы участвуют в образовании огромных пещер, обогащают минералы и драгоценные металлы, а также регулируют круговорот углерода и питательных веществ по всей планете. Возможно, микробы участвовали в создании континентов, в прямом смысле заложив основу для всей остальной земной жизни.
История живой породы, которую мы именуем Землей, – это история постоянных преобразований. Мир, который нам известен, – это всего лишь один из многообразных и непостоянных образов нашей планеты. В других своих состояниях Земля была негостеприимна не только для человека, но и для любого другого существа, кроме первобытного микроба.
Когда Земля только сформировалась, она представляла собой бурлящий шар из расплавленной породы: вероятно, он был слишком маленький, горячий и подвижный, чтобы поддерживать существование жидкой воды и атмосферы. Даже если атмосфера и существовала в каком-то зачаточном состоянии, она была уничтожена около 4,5 миллиарда лет назад в результате невероятно сильного столкновения Земли с одной из родственных ей планет. В результате образовалась масса каменистых обломков, некоторые из них со временем соединились в Луну. В течение последующих 100 миллионов лет расплавленная поверхность Земли остывала и формировала кору, выбрасывая пар и другие газы, включая углекислый газ, азот, метан и аммиак. Постоянная вулканическая активность сгустила эту газовую оболочку, а непрерывное столкновение с астероидами и метеоритами привело к образованию еще большего количества водяного пара, углекислого газа и азота.
Все высвободившиеся из недр планеты и образованные в результате падения космических объектов газы создали новую атмосферу. Огромные объемы водяного пара конденсировались в облака, а затем время от времени возвращались обратно на поверхность Земли в виде проливных дождей, которые могли продолжаться тысячелетиями. Четыре миллиарда лет назад, если не раньше, жидкая вода, скопившаяся на поверхности Земли, превратилась в неглубокий океан, усеянный многочисленными вулканическими островами, которые постепенно разрослись до первых массивов суши.
Как и многое в ранней истории Земли, точное место и время зарождения жизни мы не знаем. В какой-то момент, вскоре после появления нашей планеты, в каком-то теплом, влажном месте с подходящим химическим составом и достаточным потоком свободной энергии – в горячем источнике, ударном кратере или гидротермальном жерле на дне океана – частички Земли превратились сначала в первые самореплицирующиеся образования, которые затем эволюционировали в клетки. Доказательства, полученные в результате изучения окаменелостей и химического анализа самых древних из когда-либо обнаруженных горных пород, указывают на то, что микробная жизнь зародилась по меньшей мере 3,5, а возможно, и 4,2 миллиарда лет назад.
Среди всех ныне живущих существ те микробы, которые сегодня обитают в глубинах земной коры, вероятно, наиболее схожи с одними из самых ранних одноклеточных организмов. В совокупности эти подземные микробы составляют примерно 10–20 % биомассы Земли. Однако до середины XX века большинство ученых не верили в то, что жизнь может существовать на глубине более нескольких метров под Землей.
Несомненно, люди столкнулись с самыми поверхностными и заметными формами подземной жизни, когда еще только начали изучать и заселять пещеры, но самые старые из сохранившихся отчетов о подобных находках относятся лишь к 1600-м годам. В 1684 году, путешествуя по центральной Словении, естествоиспытатель Янез Вайкард Вальвазор проверил слухи о таинственном источнике близ Любляны, под которым, как считалось, обитает дракон. Местные жители думали, что дракон заставляет воду подниматься на поверхность каждый раз, когда двигается. После сильных дождей, объясняли они, на камнях неподалеку иногда находили детенышей дракона – тонких, извивающихся, с притупленной мордой, с оборками на шее и с почти полупрозрачной розовой кожей. Основываясь на этих сообщениях, Вальвазор описал этих животных как «подобных ящерице червей и паразитов, которых здесь много». Только спустя столетие естествоиспытатели выяснили, что эти существа были водными саламандрами, живущими исключительно в подземной воде, текущей через известняковые пещеры. Теперь они известны как европейские протеи.
В 1793 году немецкий географ и натуралист Александр фон Гумбольдт опубликовал одно из своих самых ранних научных исследований – монографию о грибах, мхах и водорослях, которые он обнаружил в шахтах близ немецкой провинции Саксония. Почти четыре десятилетия спустя, в сентябре 1831 года, проводник по пещерам и фонарщик Лука Чеч нашел в одной из пещер на юго-западе Словении крошечного медного жука длиной менее восьми миллиметров. Он был похож на муравья: с выпуклым брюшком, узкой головой и веретенообразными лапками. При ближайшем рассмотрении энтомолог Фердинанд Шмидт определил, что этот жук представляет собой ранее неизвестный вид, приспособившийся к подземной жизни: у него не было ни крыльев, ни глаз, и он ориентировался в окружающей среде с помощью длинных щетинистых усиков. Известие об этом открытии породило целую волну научных исследований. В период с 1832 по 1884 год естествоиспытатели задокументировали множество новых для науки обитателей пещер, включая различных сверчков, псевдоскорпионов, мокриц, пауков, многоножек, сороконожек и улиток.
В начале XX века ученые начали догадываться об истинном изобилии жизни под землей. Около 1910 года, пытаясь определить источник метана в шахтах, немецкие микробиологи выделили бактерии из образцов угля, собранных на глубине около километра. В 1911 году русский ученый Василий Омелянский обнаружил жизнеспособные бактерии, которые сохранились в вечной мерзлоте рядом с найденным мамонтом. Вскоре после этого почвенный микробиолог Чарльз Липман из Калифорнийского университета в Беркли сообщил, что ему удалось оживить древние бактериальные споры, которые застряли в кусках угля, добытого на шахте в Пенсильвании.
Хоть эти ранние исследования были весьма интересны, они не убедили большинство ученых в том, что микробы распространены в глубоких слоях земной коры, поскольку существовала вероятность того, что образцы были загрязнены микробами с поверхности. Однако в течение нескольких последующих десятилетий исследователи продолжали находить микробов в породах и воде, полученных из шахт и буровых площадок в Азии, Европе и Америке. Советские биологи даже начали использовать термин «геологическая микробиология».
К 1980-м годам отношение научного сообщества к подземным обитателям начало меняться. Исследования водоносных слоев – подземных запасов воды, залегающих в горных породах, – показали, что бактерии населяют грунтовые воды и изменяют их химический состав даже на глубине нескольких сотен метров под землей. Министерство энергетики США запустило научную программу, которая была призвана отслеживать загрязнение грунтовых вод. С ее помощью предстояло выяснить, способны ли микробы отфильтровывать загрязняющие вещества. Руководитель программы Фрэнк Воббер и его коллеги разработали строгие методы, которые исключали случайное попадание поверхностных микробов в исследуемый материал. Они дезинфицировали буровые коронки и полученные колонки-керны скального грунта, а также отслеживали движения жидкостей через кору, чтобы убедиться, что вода с поверхности не смешивается с образцами.
В конечном счете результаты этого и других подобных исследований показали, что ранние сторонники теории о существовании подземной биосферы были слишком умерены в своих оценках. Где бы ученые ни искали – в пределах континентальной коры, под морским дном, под антарктическими льдами, – они находили уникальные сообщества микробов, в состав которых входили тысячи неизвестных видов живых существ. Иногда микробы явно присутствовали, но были рассеяны. Так, на некоторых участках земной коры на кубический сантиметр приходился всего один микроб, что можно сравнить со страной с одним человеком на каждые 644 квадратных километра. Подземный мир был реален, но его обитатели – гораздо более микроскопичны и необычны, чем можно было себе представить.
В 1990-х годах астрофизик из Корнеллского университета Томас Голд опубликовал ряд провокационных утверждений о микробной подземной среде. Голд предположил, что микроорганизмы можно найти во всех недрах планеты в заполненных жидкостью порах между крупицами минералов горных пород. Он утверждал, что они существуют не за счет света и кислорода, а в основном за счет метана, водорода и металлов. Хотя ученые пока не нашли микробов глубже, чем на три километра под землей, Голд предположил, что они живут еще глубже – на глубине до десяти километров и что биомасса микробов внутри коры равна или даже больше той, что можно найти на поверхности. Он также считал, что вся жизнь на Земле или, по крайней мере, некоторые ее разновидности могли зародиться в недрах планеты, что на других планетах и лунах тоже могут существовать подземные экосистемы. Он полагал, что обитающие в глубинах земной коры микробы, защищенные от тех опасностей, которые можно встретить на поверхности, были, вероятно, наиболее распространенной формой жизни во всем космосе.
К началу 2000-х годов ученые, отчасти вдохновленные идеями Голда, начали говорить о новых способах погружения еще глубже в земную кору. Особенно многообещающими были шахты, поскольку они обеспечивали доступ к удаленным недрам, не требуя дополнительного бурения или инфраструктуры. Таллис Онстотт, профессор геологических наук Принстонского университета, и его коллеги побывали на сверхглубоких золотых приисках в Южной Африке и извлекли образцы подземных вод, находящихся на глубине 3,2 километра под землей. В некоторых из самых глубинных образцов исследователи обнаружили единственный живой вид – бактерию, которая по форме напоминала багет с хлыстообразным хвостом. Она выдерживала температуру до 60 °C и получала энергию из побочных продуктов радиоактивного распада урана, находящихся в ее лишенном солнечного света месте обитания.
Онстотт и его коллеги решили назвать микроб Desulforudis audaxviator в честь отрывка из романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», который гласит на латыни: «… descende, audax viator, et terrestre centrum attinges» – «спустись, отважный странник, и ты достигнешь центра Земли». Вода, в которой был обнаружен D. audaxviator, стояла нетронутой как минимум десятки миллионов лет, что позволяет предположить следующее: популяция этих микробных терранавтов могла существовать столь же долго.
«Как правило, мы не думаем о том, что в горных породах способна возникнуть жизнь, – пишет Онстотт в своей книге «Глубинная жизнь» (Deep Life). – Я геолог по образованию и, как и большинство геологов, тоже считал горные породы безжизненной материей». Но теперь, как геомикробиолог, он рассматривает каждую горную породу как небольшой мир, состоящий из особых микроорганизмов: «некоторые из них, возможно, живут в горной породе с момента ее образования сотни миллионов лет назад».



