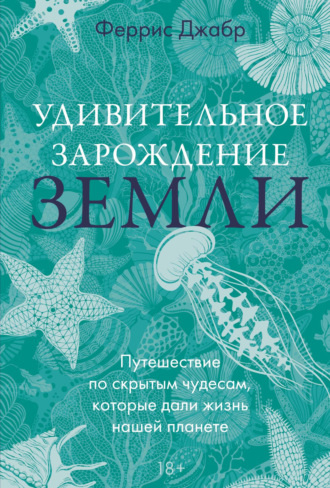
Полная версия
Удивительное зарождение Земли. Путешествие по скрытым чудесам, которые дали жизнь нашей планете

Феррис Джабр
Удивительное зарождение Земли. Путешествие по скрытым чудесам, которые дали жизнь нашей планете
© Ferris Jabr, 2024
© Асадулаева В. В., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
КоЛибри®
* * *Великолепно… Множество болезненно прекрасных отрывков, невероятных открытий и замечательных персонажей. Джабр показывает, как Земля была глубоко, чудесным образом сформирована жизнью.
Эд Йонг, лауреат Пулитцеровской премии, автор книги «Необъятный мир»Убедительный и поражающий рассказ о том, что история жизни на Земле – это история постоянного воссоздания Земли.
The AtlanticДжабр поэтично и с воодушевлением наслаждается чудесами этого мира. «Рождение Земли» придаст сил даже самому закоренелому климатическому пессимисту. Абсолютно восхитительное чтение.
ScienceМногогранное, заставляющее размышлять исследование. Лучшим книгам удается развлекать, обучать, удивлять и даже воодушевлять читателя… Они расширяют кругозор, заставляют размышлять, становятся вызовом и предупреждением, торжеством и призывом… С этой книгой журналист из Орегона Феррис Джабр достиг всех этих целей и даже больше.
The GuardianПоэтичный грозовой ливень идей.
SierraДжабр мастерски открывает нам чудеса этого мира. Мы видим планету как будто новыми глазами. Мы видим Землю как откровение, аномалию и чудо, которым она является.Red Canary MagazineУвлекательный рассказ о взаимосвязанности мира… Феррис Джабр создает гобелен из сложных отношений между формами жизни и самой Землей.
New ScientistЭта фантастическая книга поможет вам осознать великую красоту и силу планеты, на которой мы живем и которой уделяем так мало внимания.
Big ThinkУвлекательный труд Ферриса Джабра вдохновляет и побуждает к размышлениям.
Элизабет Колберт, лауреат Пулитцеровской премии, автор книги «Шестое вымирание. Неестественная история»Книга настолько же захватывающая, насколько и поучительная.
El EspañolВоздуху, воде и камню. Огню, льду и глине. Разрушительным ледникам, зыбким дюнам, сияющим горячим источникам и глубоководным равнинам. Пылающим подводным жерлам, взрывоопасным вулканическим очагам, древним горам и новорожденным островам. Огромным зеленым лесам, просторным лугам и пористому торфу. Обрывистым плато, безлесой тундре и пропитанным солью мангровым лесам.
Динозаврам, секвойе, мамонтам и китам. Слизевикам[1], насекомым, грибам и улиткам. Микробам, которые питаются солнечным светом, засеивают облака и добывают золото. Корням, которые дали нам почву и заставили течь реки. Стадам вымерших титанов и всем тем, кто еще бродит. Океану в нашей крови и нашим каменным скелетам.
Тем, кто растит, строит, думает и учит. Исследователям, создателям, воспитателям и целителям. Всем песням, которые мы знаем, и всем тем, что еще не услышали.
Нашей живой планете. Нашему чуду. Земле.
Подумайте только: кем бы мы ни были – человеком, насекомым, микробом или камнем, – одно остается верным. Мы меняем все, до чего мы дотрагиваемся. Нас меняет все, что меняем мы.
Октавия Батлер. Притча о сеятеле (The Parable of the Sower)Что, если бы мы вдруг осознали, что сердцебиение каждого существа на планете отражается в биении нашего собственного сердца, что все это – эхо пульса Земли, который бьется в венах нас всех, включая животных и растения?
Терри Темпест Уильямс. Происходить (Take Place), журнал «Парижское обозрение» (The Paris Review)Земля – единая страна. Мы все – волны одного моря, листья одного дерева, цветы одного сада.
Послание братства, вероятно, пересказ писаний Бахауллы, пророка-основателя веры бахаи, и его сына Абдул-БахаВведение
Когда я был мальчишкой, я думал, что могу менять погоду. Знойными летними днями, – такими жаркими, что растения в садах пригородной Калифорнии увядали, а асфальт обжигал кожу, – я рисовал большую дождевую тучу и маршировал вокруг нее по лужайке, поливая из шланга водой и посыпая обрезками, которые собрал в собственном саду. При этом я, возможно, даже напевал какое-то примитивное заклинание по мотивам популярного детского стишка, в котором дождь, наоборот, обычно просили «уйти».
По мере того как я взрослел, мое представление о метеорологии менялось. В школе я узнал, что вода, испарившись из озер, рек и океанов, поднимается в атмосферу, где она остывает и конденсируется в маленькие капельки. Эти дрейфующие капли воды сталкиваются и объединяются, цепляясь за пылинки и превращаясь в те ватные массивы, которые мы привыкли называть облаками. В определенный момент эти облака, в свою очередь, становятся достаточно тяжелыми, чтобы осесть обратно на поверхность Земли в виде осадков. Таким образом, меня учили видеть дождь как неизбежный феномен физики атмосферы и дар, который мы и другие живые существа получаем без какого-либо активного вмешательства с нашей стороны.
Однако несколько лет назад я узнал поразительный факт, который полностью перевернул мои представления о погоде и в конечном итоге о планете в целом. Этот факт возвратил мне тот детский восторг, который я так редко испытывал во взрослом возрасте. И вот что я узнал: зачастую живое не просто пассивно принимает дождь – оно его призывает.
Рассмотрим тропические леса Амазонии. Каждый год там выпадает около восьми футов осадков[2] в виде дождя. В некоторых частях леса годовая норма осадков достигает 14 футов[3], что превышает среднегодовое количество осадков в находящихся поблизости США более чем в пять раз. Отчасти подобная лавина осадков – результат географической случайности. Большое количество солнечного света в экваториальных регионах ускоряет испарение воды с моря и суши, пассаты приносят влагу с океана, а горы заставляют поступающий воздух подниматься, охлаждаться и конденсироваться. Тропические леса возникают там, где идет дождь.
Однако это не всё. Под пологом леса огромные сети, образованные корнями и гифами симбиотических грибов[4], втягивают воду из почвы в стволы, ветви и листья около 400 миллиардов деревьев в Амазонии. Наполняясь этой водой, деревья выделяют лишнюю влагу и насыщают воздух 20 миллиардами тонн водяного пара каждый день. В то же время всевозможные растения выделяют соли и испускают различные газообразные соединения. Грибы, изящные, как бумажные зонтики, или приземистые, как дверные ручки, производят миллионы спор. Ветер уносит в атмосферу бактерии, пыльцу, кусочки листьев и коры. Это влажное дыхание леса, наполненное микроскопической жизнью и органическими остатками, создает идеальные условия для дождя. Когда в воздухе так много воды и мельчайших частиц, на которых она может конденсироваться, облакам несложно образоваться. Некоторые находящиеся в воздухе бактерии даже способствуют замерзанию капель воды, что делает облака больше и тяжелее, а также повышает вероятность ливня. В обычный год Амазония производит около половины собственных осадков.
В конечном счете тропические леса Амазонии оказывают влияние на погоду не только на месте своего произрастания. Вся выделяемая лесом вода, детрит[5] и микроскопическая живность превращаются в огромный поток – воздушный аналог реки, что течет под кронами деревьев. Эта «летающая река» приносит осадки на территории ферм и городов всей Южной Америки. Как считают некоторые ученые, благодаря волновому эффекту в атмосфере Амазония способствует выпадению осадков даже в удаленных от нее местах, например в Канаде. Так, растущее в Бразилии дерево способно изменить погоду в Манитобе.
Тайный ритуал дождя в Амазонии ставит под сомнение стандартные представления о жизни на Земле. Согласно общепринятому мнению, жизнь зависит от окружающей среды. Если бы Земля не вращалась вокруг звезды подходящего размера и возраста, если бы она находилась слишком близко или слишком далеко от этой звезды, если бы у нее не было устойчивой атмосферы, воды и магнитного поля, отклоняющего вредное космическое излучение, жизни на Земле не было бы. Жизнь возникла на нашей планете лишь потому, что Земля пригодна для жизни. Любая господствующая научная парадигма со времен Дарвина также подчеркивает, что именно постоянное изменение параметров окружающей среды по отношению к живым существам во многом направляет эволюционный процесс. Те виды, что лучше всего справляются с изменениями в своей среде обитания, оставляют после себя больше потомков, в то время как те, кто не может адаптироваться, вымирают.
Однако справедливо и обратное, пока менее распростаненное, утверждение: жизнь тоже оказывает влияние на окружающую среду. В середине XX века, когда экология официально утвердилась в качестве научной дисциплины, эта идея начала получать более широкое признание в западной науке. Тем не менее внимание при этом уделялось относительно небольшим, локальным примерам влияния живых существ на природу: например, строящим плотину бобрам или дождевым червям, разрыхляющим почву. Гораздо реже всерьез воспринималась мысль о том, что живые существа всех видов могут изменять окружающую среду в гораздо большем масштабе – что микробы[6], грибы, растения и животные способны менять топографию и климат континента или даже всей планеты. Так, в 1962 году Рейчел Карсон писала в своей книге «Безмолвная весна» (Silent Spring): «Физические особенности и привычки земного растительного и животного мира были в значительной степени сформированы окружающей средой. Однако, учитывая весь период существования Земли, об обратном, а именно о влиянии жизни на условия ее существования, говорить пока не имеет смысла». Эдвард Осборн Уилсон в своей книге «Будущее жизни» (The Future of Life) 2002 года говорил о чем-то схожем: «Homo sapiens стал первой геофизической силой, единственным видом в истории планеты, достигшим этого сомнительного отличия».
Впервые узнав о дождевом режиме лесов в Амазонии, я был одновременно и восхищен, и озадачен. Я знал, что растения поглощают воду из земли и выделяют влагу в воздух, но меня потрясло то, что суммарно деревья, грибы и микробы в Амазонии вызывают такое количество дождей и что жизнедеятельность организмов на одном континенте изменяет погоду на другом. Мне не давала покоя мысль о том, что тропический лес – это, по сути, сад, который поливает сам себя. Я задался вопросом: если это работает подобным образом в такой огромной экосистеме, как Амазония, действует ли этот механизм в еще больших масштабах? Каким образом и насколько сильно жизнь меняла планету на протяжении всей ее истории?
В поисках ответов на эти вопросы я выяснил, что научное понимание взаимоотношений живых организмов и планеты не подвергалось серьезной ревизии уже долгое время. Однако, вопреки устоявшимся представлениям, на протяжении всей истории Земли жизнь была значительной геологической силой, часто по мощи сопоставимой с ледниками, землетрясениями и вулканами, если не превосходящей их. За последние несколько миллиардов лет всевозможные формы жизни, от микробов до мамонтов, изменили облик континентов, океана и атмосферы, превратив вращающийся вокруг Солнца условный кусок камня в знакомую нам планету. Живые существа – это не просто продукты своей среды обитания и происходящих в ней неумолимых эволюционных процессов. Они организуют окружающую среду и активно участвуют в собственной эволюции. Мы и другие живые существа не просто обитатели Земли. Мы и есть Земля – порождение ее физической структуры и двигатель планетарных циклов. Земля и ее обитатели настолько тесно переплетены, что мы можем считать их единым целым.
Доказательства этого нового подхода можно встретить повсюду, хотя большая их часть была открыта совсем недавно и еще не проникла в общественное сознание в той же степени, как, скажем, теория об эгоистичных генах[7] или микробах. Около двух с половиной миллиардов лет назад фотосинтезирующие океанические микробы, известные нам как цианобактерии, навсегда изменили облик нашей планеты. Они насытили атмосферу кислородом, тем самым придав небу знакомый голубой оттенок и положив начало формированию озонового слоя, который защитил новые волны жизни от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Сегодня растения и другие фотосинтезирующие организмы помогают поддерживать уровень кислорода в атмосфере на достаточно высоком уровне, чтобы существовали сложные формы жизни, однако не настолько высоком, чтобы Земля вспыхнула от малейшей искры. Микроорганизмы же, участвуя в ряде геологических процессов, вносят большой вклад в поддержание минерального многообразия Земли. Как считают некоторые ученые, именно эти микроорганизмы сыграли решающую роль в формировании континентов. В свою очередь, морской планктон запускает жизненно важные химические циклы и выделяет газы, которые, увеличивая облачный покров, влияют на глобальные климатические изменения. Заросли водорослей, коралловые рифы и моллюски накапливают огромное количество углерода, снижают кислотность океана, улучшают качество воды и защищают берега от непогоды. Наконец, разнообразные животные, начиная со слонов и луговых собачек[8] и заканчивая термитами, непрерывно преобразуют земную кору, содействуя движению потоков воды, воздуха и питательных веществ и улучшая положение миллионов видов живых существ.
За последнее время, а может быть, и за всю историю существования планеты самым ярким примером преобразующих Землю живых существ стали сами люди. Извлекая богатые углеродом останки древних джунглей и морских обитателей и используя их в качестве ископаемого топлива, а также разрушая экосистемы, промышленно развитые страны наполнили атмосферу углекислым и другими парниковыми газами. Это привело к стремительному повышению температуры планеты, поднятию уровня моря, учащению засухи и лесных пожаров, усилению бурь и аномальной жары и в конечном итоге подвергло опасности жизни миллиардов людей и бесчисленного множества других существ. Тем не менее именно упрямое убеждение о том, что люди недостаточно могущественны, чтобы оказать влияние на всю планету, и стало одним из многочисленных препятствий на пути общественного и политического признания проблемы климатических изменений. Однако на самом деле на это способен далеко не только человек. Вся история живого на Земле – это история живых существ, изменяющих облик Земли.
Изучая взаимосвязь между Землей и живыми существами, я постоянно возвращался к древней идее, которую сегодня многие готовы оспорить, а именно к идее о том, что Земля сама по себе живая. Анимизм – одно из древнейших и наиболее распространенных верований человечества. На протяжении всей нашей истории всевозможные культуры одушевляли планету и считали различные ее компоненты живыми. Во многих религиях Земля олицетворяется как божество, часто – как богиня-мать или чудовище, а может быть, и всё вместе. Ацтеки поклонялись Тлальтекутли, огромной когтистой химере, чье расчлененное на части тело превратилось в горы, реки и цветы. В скандинавской мифологии имя великанши Йорд было синонимично Земле. В некоторых культурах Земля представлялась как сад, растущий на спине гигантской черепахи. Древние полинезийцы почитали Ранги и Папа, Небо и Землю, которые оставались в тесных объятиях друг друга, пока их не разлучили дети. Но даже после разлуки они продолжали взывать друг к другу в виде поднимающегося на небо тумана и падающего на землю дождя.
Идея о том, что Земля живая, проникла из мифов и религий и в раннюю западную науку, где сохраняла свою актуальность на протяжении нескольких веков. Многие древнегреческие философы считали Землю и другие планеты одушевленными существами с душой и жизненной энергией. Леонардо да Винчи сравнивал Землю с человеческим телом: он проводил параллели между человеческими костями и камнями, кровью и водой, дыханием и волнами. Джеймс Геттон, шотландский ученый XVIII века и один из отцов современной геологии, описывал планету как «живой мир», обладающий «физиологией» и способностью к самовосстановлению. Вскоре после этого немецкий естествоиспытатель и исследователь Александр фон Гумбольдт охарактеризовал природу как «живое целое», в котором все организмы тесно связаны друг с другом сложными взаимодействиями в единую общность, эти связи, как нити, переплетены между собой в «сложную ткань».
Однако Геттон и Гумбольдт были скорее исключением среди своих коллег, придерживающихся по большей части строгого эмпиризма. В роскошных кабинетах европейских ученых даже метафорические описания Земли как живого существа к середине XIX вышли из моды. По мере того как академические дисциплины становились все более специализированными и подверженными редукционизму[9], ученые создавали все более конкретные классификации материи и природных явлений, все больше отделяющие живое от неживого. Вместе с этим в результате промышленной революции и расширения территорий колониальных империй формировались язык и мировоззрение, воплощающие в себе ценности механизации, прибыли и завоеваний. Планета больше не воспринималась как достойное почитания живое существо – теперь ее считали совокупностью неодушевленных ресурсов, готовых к эксплуатации.
Только в конце XX века идея одушевленной планеты воплотилась в одном из наиболее популярных и устойчивых понятий в каноне западной науки, а именно в гипотезе Геи. Согласно этой теории, выдвинутой британским ученым и изобретателем Джеймсом Лавлоком в 1970-х годах и позже развитой им совместно с американским биологом Линн Маргулис, все одушевленные и неодушевленные элементы Земли являются «частями и соучастниками огромного существа, которое во всей своей полноте обладает силой поддерживать нашу планету в качестве пригодной и комфортной для жизни среды обитания»[10]. Лавлок писал: «Если рассматривать Землю через призму гипотезы Геи, то Земля может напомнить нам гигантскую секвойю. Так, лишь некоторые части этого дерева содержат живые клетки, а именно листья и тонкие слои тканей в стволе, ветвях и корнях. Подавляющая часть зрелого дерева – мертвая древесина. Аналогичным образом бо́льшая часть нашей планеты – это неодушевленный камень, но на его поверхности лежит цветущий живой покров. Как живая ткань необходима для поддержания жизнедеятельности целого дерева, так и живой покров Земли помогает поддерживать жизнь этого планетарного существа».
Лавлок не был первым ученым, описавшим Землю как живое существо, но его смелость, решительность и красноречие вызвали не только одобрение, но и шквал насмешек. Лавлок опубликовал свою первую книгу о Гее в 1979 году на фоне подъема экологического движения. Его идеи привели в восторг общественность, но научное сообщество приняло их без энтузиазма. На протяжении нескольких последующих десятилетий ученые критиковали и высмеивали гипотезу Геи. В одной из рецензий биолог-эволюционист Грэм Белл писал: «Я бы предпочел, чтобы гипотеза Геи ограничилась своей естественной средой обитания – привокзальными книжными прилавками, а не оскверняла своим присутствием серьезные научные работы». Роберт Мэй, будущий президент Королевского общества, назвал Лавлока «юродивым», а микробиолог Джон Постгейт особенно резко осудил гипотезу: «Гея – Великая Мать Земля! Планетарный организм! Неужели я единственный биолог, которого передергивает от того, что СМИ в очередной раз предлагают мне всерьез относиться к этой гипотезе?»
Со временем, однако, сопротивление научного сообщества гипотезе Геи ослабло. В своих ранних работах Лавлок порой наделял Гею излишними полномочиями, формируя ошибочное представление о том, что живая Земля стремится к некоему оптимальному состоянию. Однако сама гипотеза Геи – идея о том, что живые существа преобразуют планету и являются неотъемлемой частью процессов саморегуляции, – оказалась на удивление прозорливой. Хотя некоторые исследователи до сих пор не могут принять гипотезу Геи, ее выводы уже стали частью современной науки о земных системах – относительно молодой дисциплины, непосредственно изучающей живые и неживые элементы планеты как единое целое[11]. Как писал Тим Лентон, ученый, изучающий земные системы, он и его коллеги «теперь мыслят в категориях совместной эволюции живых существ и планеты, признавая, что эволюция живого повлияла на формирование планеты так же, как и изменения в планетарной среде сформировали жизнь, а потому все это вместе можно рассматривать как единый процесс».
Есть и другие ученые, выражающие согласие с Лавлоком в том, что планета – живое существо. «Для меня не может быть никаких сомнений в том, что наша планета живая – по-моему, это просто констатация факта», – говорит специалист по изучению атмосферы Колин Голдблатт. Астробиолог Дэвид Гринспун утверждал, что Земля не просто планета, на которой есть жизнь, а, скорее, живая планета. Он говорит: «Жизнь – это не то, что произошло на Земле, а то, что произошло с Землей. Между живыми существами и неживыми материями есть взаимосвязь, которая делает планету совсем не такой, какой она могла бы быть в противном случае». Даже некоторые из самых яростных критиков Геи изменили свое мнение. Так, биолог-эволюционист Форд Дулиттл признался в журнале Aeon[12] за 2020 год: «С годами я стал теплее относиться к идее о Гее. Я был одним из первых и самых строгих критиков теории Лавлока и Маргулис, но сегодня я начинаю подозревать, что они могли быть правы».
Те, кто не согласен с идеей о том, что планета живая, обычно выдвигают такие аргументы: Земля не может быть живой, потому что она не ест, не растет, не размножается и не развивается как «настоящие» живые существа. Однако мы должны помнить, что никогда не было ни объективных способов это измерить, ни точного и общепринятого определения жизни вообще. А был лишь длинный список качеств, которые, предположительно, отличают одушевленное от неодушевленного.
Однако такое точное разделение бесполезно. Кристаллы точно воспроизводят свои высокоорганизованные структуры по мере роста, но большинство людей не считают их живыми. И наоборот, некоторые организмы, такие как жаброногие рачки артемии и тихоходки, похожие на мармеладных мишек микроскопические животные, при внешних неблагоприятных условиях могут впадать в спячку. В это время они перестают есть, расти и каким-либо образом меняться в течение многих лет, но они все равно считаются живыми существами. Большинство ученых исключают вирусы из сферы живого, потому что они не могут размножаться и развиваться, не проникая в живые клетки, однако эти же ученые не колеблясь приписывают жизнь всем паразитам – животным и растениям, – которые вообще неспособны выживать или размножаться без хозяина.
Таким образом, жизнь – это призрачное явление, изменчивый процесс: он больше похож на глагол, чем на существительное. Нам нужно смириться с мыслью, что жизнь происходит в разных масштабах: в масштабах вируса, клетки, организма, экосистемы и да, даже планеты. Как и многие живые существа, Земля потребляет, накапливает и преобразует энергию. У Земли есть тело с организованными структурами, мембранами и суточными ритмами. Наша планета породила множество биологических организмов, которые непрерывно поглощают, изменяют и вновь наполняют ее поверхность, воду и воздух. Эти организмы и окружающая их среда неразрывно связаны друг с другом процессом совместной эволюции, часто соединяясь в процессах самостабилизации, способствующих их взаимному сохранению. В совокупности эти процессы наделяют Землю своего рода планетарной физиологией: дыханием, метаболизмом, регулируемой температурой и сбалансированным химическим составом. Земля живая, как и мы.
Первоначальная реакция научного сообщества на гипотезу Лавлока могла бы быть более благосклонной, если бы он дал ей другое название. Последовав совету своего друга Уильяма Голдинга, автора романа «Повелитель мух» (Lord of the Flies), Лавлок назвал свою планетарную сущность в честь греческой богини Геи, олицетворяющей Землю, чем навсегда заклеймил свои идеи антропоморфизмом, табуированным в научном сообществе. Хотел того Лавлок или нет, но выбранное им имя придало его гипотезе материнский облик и определенную долю мистики, что сделало ее легкой мишенью для критиков, не терпящих метафор и враждебно относящихся к чему-либо, напоминающему религию или миф. Когда мы пересматриваем и вновь актуализируем концепцию живой планеты в XXI веке, возможно, нам не нужно возвращаться к старому имени или придумывать новые прозвища. Наша планета – это необыкновенное живое существо, у которого уже есть всем нам известное имя. Его имя – Земля.
Как самая большая и сложная форма жизни из всех нам известных, Земля также является и самой сложной для понимания. Чисто механистические метафоры не способны передать жизненную силу и богатство нашей планеты. Сравнения с телами животных кажутся слишком ограниченными для планеты, живая материя которой состоит в основном из растений и микробов. Возможно, идеальной метафоры не существует, но в процессе написания этой книги я нашел ту, которая одновременно полезна и дополняет концепцию живой Земли: музыка[13].



