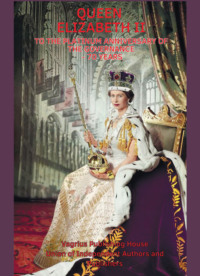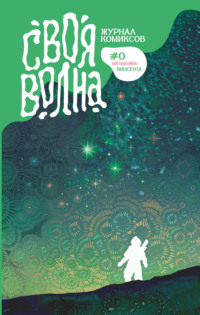Полная версия
Королева Елизавета II
– Что ты им, подлецам, наконец, ответил, Женя? Обличил в их сути, чтобы они почувствовали, наконец, что они опозорились?!
Орехов, мрачнея, продолжал:
– Ответил я им, Володя, не роняя себя. «Вы, говорю, товарищи, наверное просто издеваетесь надо мной. Я рисую с того момента, когда впервые взял в руку карандаш. Вы должны были спросить меня – давно ли я серьёзно рисую. Серьёзно я рисую с тех пор, как я себя помню! Я рисую всю жизнь, и вы об этом знаете. Вы бы меня ещё спросили, например, давно ли я пью.» Тогда один из них и спрашивает, я не помню, кто именно: «Давно?» Я удивился. О чём он? А он дальше накручивает, да так серьёзно: «Евгений Александрович, вы не обижайтесь, но вы ведь сами о себе заявляете. Это не я вас спрашиваю. Объясните всем нам, пожалуйста, – давно ли вы пьёте?» Вот, оказывается, что им было интересно знать – давно ли я употребляю спиртные напитки и в какой степени часто употребляю. Вот в чём весь вопрос!..
После этого рассказа впечатлительный Блинчиков зашептал, признаваясь:
– Женя, происходит страшная вещь. Биополя подлецов влияют на нас! Я сам чуть не стал подлецом, общаясь с подлецами. Я женщину обидел. Хорошую, светлую, достойную и возвышенную женщину! Оскорбил её, как последняя дрянь. Потом звонил, оправдывался. Потом напился, писал стихи на обрывках салфеток в грязной пивной, наблевал на пол, матерно ругался, драться к кому-то лез. Меня выставили из помещения, конечно. Это был оскорби тельный, низкий момент моей жизни! Ты послушай стихи, я читал их весь вечер. За эти-то стихи какой-то парнишка из гегемонов довёз меня до дома на такси, а то бы я просто умер бы на улице в мороз! И он меня не только довёз, но ещё и оставил мне записку с адресом – дескать, что надо будет – заходи. Поможем тебе не упасть, так сказать, через заводскую родную проходную. Не бедствуем, мол, завод богатый, и мы хозяева там все, а не гости. И за что всё? За стихи. Нет, ты послушай, я почитаю:
Безжалостно дарят мужчины,Обиженных женщин векам,И слёзы, что горче рябины,Текут по обеим щекам.Мы старую песню заводим,И словно стесняясь улик,Ужасно неловко уходим,Подняв до ушей воротник.Бывает, потом вспоминаем,Как утром, в холодный туман,От редких прохожих скрываясь,С собой уносили обман.Безжалостно дарят мужчиныОбиженных женщин векам,И слёзы, крупнее рябины,Текут по обеим щекам.Честно говоря, Блинчиков не помнил точно, его ли это стихи. Может, это были и чужие стихи, может, даже Рождественского Роберта или Всеволода, или ещё чьи-то, запрещённые! Правда, не шедевр, не Мандельштама, а просто – стихи. Важно – стихи. Так уж повелось, видимо, между творческим народом XX века применять стихи к ситуации. Бывает в такие минуты, что стихает пьяный гул. Бывает, что и люди изменяются. Прозвучали всё-таки стихи! Стихи!..
– Хорошие стихи, по-моему, – оценил Орехов.
Он неторопливо встал, пошарил в углу мастерской и поставил на спинку дивана небольшое полотно. Блинчиков глянул и обомлел: в голубизне прозрачной вазочки, словно рыбка в аквариуме, плавала белая розочка с тоненьким, длинным стебельком.
– Как здорово ты нашёл этот образ, Женя! – произнёс Блинчиков. – А ведь что нашёл? Ничего. Роза и ваза. Но как? Ты славный живописец, Женя. Ты мастер, и это правда! Давно ты это написал?
– С неделю как закончил. Тоже, представь, хотел подарить женщине, чужой жене. Потом гулял по набережной, был поздний вечер. На улицах стояла тишина. Никого! Хорошо мне так стало. Я увидел на углу телефон-автомат и решил позвонить ей. Мы не уславливались о встрече, просто решил – позвоню! Молчал в трубку. А она мне говорит: «Не молчите, Женя! Я знаю – это вы сделали!» Я удивился. «Что случилось?», говорю. А она мне дальше накручивает, да так серьёзно: «Я от вас не ожидала, Женя! Вчера, после вашего ухода, у мужа со стола исчезла щёточка для усов. Он не может без неё обойтись, и я не прощу вам этого никогда! Он должен выглядеть достаточно культурно, он имеет дело с обеспеченными людьми. Отдайте щёточку! Что за насмешка. Вы завидуете нашему материальному успеху? Но всем хочется жить и зарабатывать. Жить, а не существовать! И я скажу вам начистоту: вы импотент, Женя! Между нами всё кончено!»
– Как это низко! – закричал Блинчиков. – Как может изранить нас чужое биополе! Мы все погибнем в пошлой стихии быта. Наступит воистину чёрный момент в нашей трудной жизни…
Постепенно друзья допили вино, доели колбасу и селёдочку, и Блинчиков засобирался домой. На прощанье он сказал Орехову:
– Если бы ты был цельной натурой, Женя, ты рисовал бы шалаш у реки, корабли и моря, рощи, передовых строителей. А ты изображаешь изломы – розочку в вазе. Осколки прошлого! Шелест былого! Но надо искать. Познавать надо дальше. Пока ещё жив!
С этими словами он ушёл, пообещав утром заглянуть. Орехов проводил его до троллейбуса и подержал дверь транспорта сильной рукой.
Поэт до дома доехал благополучно. С водителем не ссорился, к пассажиру, единственному в столь поздний час в троллейбусе, с разговорами в душу не лез, соседей в квартире не будил и женщину тоже никакую с собой не привёл. Тихо лёг спать и спал без сновидений. Проснулся к полудню.
«Где я был вчера? – припомнил он. – У Жени, это точно. И говорили так интересно. Но о чём?»
В памяти поэта застряла странная философская фраза, врезалась, впилась в мозг! И фраза эта была произнесена глухим голосом Орехова.
«Если Орех накрутит мысль – это будет только серьёзно! И надо думать и разбираться в этом, философ он всё-таки», – размышлял Блинчиков и вдруг вспомнил розу и вазу. И вспомнилось остальное: про синепупых, про творческую комиссию при Союзе художников, про женщин и про щёточку для усов. Но странной фразы о мире и бытии Блинчиков вспомнить не мог. Что-то такое – неопознанный мир? Или как? Нет, не утопленник же он, мир наш, чтобы его ещё опознавать. Было сказано близкое к тому, но другое, совсем другое! Короче, поэт никак не мог сосредоточиться и вспомнить, да и голова болела. Надо было ехать к Орехову, пусть повторит, пока не забыл образ, а уж на этот раз поэт запомнил бы. Да и к тому же обещал Блинчиков заглянуть к другу.
Быстро одевшись, поэт выпил стакан чаю и что-то съел. Но когда стал он надевать туфли, приключилась первая беда – оторвался каблук, а ведь, как все поэты, Блинчиков был суеверен. «Это знак к переменам в жизни!» – думал Блинчиков, кое-как приспосабливая каблук на место. Выйдя на улицу, поэт почему-то подумал о смерти Пушкина, о его последнем прости: «Кончена жизнь!» И поэт сказал мысленно, стараясь не шептать вслух, потому что люди на улице могли услышать и снова, не поняв сказанное, оскорбить за странное поведение, – поэт повторил про себя пушкинское, великое: «Пора, мой друг, пора!»…
Окна мастерской Орехова были плотно задернуты коричневыми шторами. Надо было ожидать, что художник ещё не просыпался. Блинчиков зашёл под арку, проник в подъезд и стукнул в дверь. Звонка не было, никто не откликнулся из мастерской на стук. Блинчиков потянул дверь на себя. И он ударился об неё, потому что дверь была не заперта.
– Дверь на ночь почему не закрываешь, Орех! – вскрикнул Блинчиков, заходя в мастерскую, и мгновенно забыл об ушибе и не ощущал больше боли в голове. То, что он увидел в мастерской, было странно и загадочно. Орехов стоял посередине помещения в наброшенном на плечи полосатом одеяле, в котором он прорезал дырку для головы, и в руке держал палку, толстую и суковатую, с навинченным на её конец никелированным шаром. Увидев Блинчикова, Орехов пояснил:
– Иду странствовать по России! Решил уйти в мир.
– Ты с утра принял что ли, Женя? – начал Блинчиков торопливо говорить, всё больше и больше пугаясь. – Тебя заберут в вытрезвитель в таком наряде, это одеяло, не свитер и не пиджак. Сними, говорю! Хочешь опять в отделение милиции попасть?..
– Не поминай меня! – сказал Орехов и отвесил Блинчикову земной поклон.
И когда спина Орехова согнулась, увидел Блинчиков за этой громадной спиной непросохший холст, и на его лиловом фоне алела сочная роза в прозрачной белой вазе.
– Славно как, – сказал Блинчиков. – Поработал ты, Женя! Мне это нравится. Фон, правда, тёмный, трагический. Но, конечно, это уже поиск, это не излом. Здесь ты изобразил, пожалуй, цельный мир!
– Тише, – сказал укоризненно Орехов. – Мир непознаваем. Блинчиков узнал сразу странную фразу, с которой он промучился целое утро, но на всякий случай уточнил:
– Ты говорил это вчера, Женя? Серьёзный образ.
– Да, я говорил это вчера, – подтвердил Орехов. – Мир от Бога. Но я иду изучить его, найти в нём суть, открыть его тайны! Я ухожу надолго.
– А деньги у тебя есть на проезд в поезде, на питание?
– Мне не надо. Впрочем, какие-то есть. Просто пора идти.
– Ночевать где будешь? В гостиницах? Разоришься! На скамейке в сквере – невозможно каждый день. Намучаешься и заболеешь.
– В склепах старинных постараюсь устраивать ночлеги, – сказал Орехов. – Там только и почувствуешь вечность!
«Кончено, – подумал Блинчиков. – Неужели мозгами поехал?» И он рухнул бессильно на продавленный диван. Орехов же спокойно взял кисть и тюбик красной краски и написал на куске картона:
ЖИВОПИСЕЦ ОРЕХОВ ЕВГ. АЛЕКС.
УШЕЛ В MIP ТРЕТЬЕГО ИЮЛЯ
И он поставил точку над и. Блинчиков ухватил приятеля за полосатое одеяло и зашептал:
– Не делай глупостей, Женя. Тебя остановят на первом же углу. Ты ляг лучше и поспи. Я схожу в магазин, куплю портвейна, картошки нажарю! Чаю попьём с пряниками. Тебе надо отдохнуть!
– От спиртного отрёкся, – отчеканил Орехов.
Блинчиков изо всех сил держался за край одеяла и говорил:
– Опомнись, Женя, это вообще не дело! Сейчас не пообедаешь в усадьбе дедушки Толстого. Никто не поймёт тебя, лишний раз заработаешь снова дурную славу. Хватит, прошу тебя! Не надо больше шума! Устал, изболелся – ляг и проспись.
– Нет, – сказал Орехов. – Есть троица, число святое. Я это число написал. Вчера, откроюсь тебе, я решил идти странствовать. Ты утвердил меня в моём решении. Я понял – надо идти. Цельность должна проявляться без компромиссов. Ушёл троллейбус. Ушла жизнь. Пора.
– Если в отделение будут всё-таки забирать, хватай такси и дуй от милиции подальше. Не объясняйся с ними, я тебя прошу! А то они тебе того прилепят!
И Блинчиков покрутил пальцем у виска.
– Это ещё страшнее, Женя, если прилепят того! Не видать тебе тогда ни зарплаты, ни членства в Союзе. Но лучше ты измени решение, Женя. Поедем в Лемболово, за город. Давай, закатимся? Там речка и роскошная ива! Тебе, я помню, нравилось всегда это местечко. Давай, катанём? Возьмём этюдники только.
– Нет, – сказал Орехов твёрдо. – Я ухожу в мир, и ты благословил меня.
– А как же картины?! – закричал Блинчиков. – Ограбят мастерскую, Женя. Тю-тю будут твои картины! Найдётся кому и что присвоить. Постараются!
– Пусть, – сказал Орехов. – Всё суета. Я ушёл. Прощай.
– Но сегодня всё-таки четвёртое июля, а не третье. Третье было вчера! – попробовал ещё раз доказать Блинчиков. – Надо переделать, переписать. Остынь, знаешь. Напишем красиво, шрифтом. Потом что-то решим!..
– Не крути меня так серьёзно, – отвечал Орехов. – Я объяснил тебе о троице. Пусть всё оно будет как суждено! Чему быть…
В тот день поэт Блинчиков пришёл в буфет Союза художников, пропил остатки денег, но стихи почему-то не читал, был мрачен. На вопросы не отвечал ни на какие, особенно об Орехове. Ушёл домой совсем рано. Подумали так, что он приболел, простудился, потому что шмыгал довольно часто носом. Бывает!
Прошёл, примерно, месяц. Оставшись один в обыденной жизни, Блинчиков приходил к мастерской Орехова частенько. Стучался в дверь, смотрел, есть ли свет за коричневыми шторами, и очень даже боялся за картины. На вопросы об Орехове стал отвечать охотно, говорил, что много работает сейчас Женя, никого к себе не пускает, потому что надо ему сменить образ жизни, стать членом Союза художников, получать, наконец, где-то деньги на законном основании и, может быть, даже пора жениться. Высокого роста Орехов, видный мужчина!
Собеседники соглашались, но светилась в глазах лжецов привычная им, довольная и понимающая насмешка. Дескать, знаем об Орехове, что он во всех отношениях того! Бывало, в беседах проскальзывал даже смешок. Но осторожный смешок. Знали – отомстит поэт за друга, потому что очень его уважал. Да и никто не хотел быть обличённым публично в каком-нибудь общественном месте беспощадным и неглупым человеком, поэтом Блинчиковым Володей! Но июль пролетел, и Орехов так и не появился в буфете. И окна мастерской были темны. Наступал август. Песок на пляже у Петропавловской крепости пылал, однако, в то лето, как в июле, припекая бледное тело Блинчикова.
«Как жарко в городе! – возмутился однажды в душе поэт. – Как он изматывает всё-таки, город!»
И он решил ехать на природу, в лес, сделать выход на пейзаж! Захватив этюдник, поэт успел на Финляндский вокзал, хотя дело клонилось к вечеру, и взял в кассе билет до Пери. Но Пери он проехал, заснул в электричке, а так как никто его не разбудил, то он и проснулся в Лемболово. Эти места он знал хорошо.
Когда Блинчиков дошёл до речки, солнце уже садилось. Гладь фантастически фиолетовых вод ручейка, который в окрестности считался речкой, изогнувшись петлёй, покачивала на своей поверхности зыбкий пятачок земли с поникшей серебристой ивой. «Вот оно! – с наслаждением подумал Блинчиков. – Вот вечный образ земли!» Он сбросил с плеча в траву тяжелый этюдник и, набрав побольше воздуха в лёгкие глубоким вздохом, увлажнил свой организм испарениями речки. Нужно было начинать этюд, солнце упрямо катилось за горизонт. Блинчиков пристроился работать ближе к реке, когда из листьев ивы вдруг раздался глухой голос:
– Приветствую тебя за благословенным трудом твоим, Владимир!..
Блинчиков глянул на иву и рассмотрел среди листьев знакомую фигуру.
– Женя! – воскликнул Блинчиков. – Вот это встреча, Женя! Ты жив ещё пока, значит, жив! Как я рад, поверь мне, поверь! Я тебе никогда не врал…
– Да, я ещё, как видишь, жив, – говорил Орехов хрипло, переходя речку вброд, причём Блинчиков заметил, что Орехов нёс одеяло подмышкой, брюки на нём висели клочьями, а палкой он шарил в воде, отыскивая брод впереди.
– Как ты живёшь? Рисовать не тянет, Женя? – шептал поэт, внимательно глядя на друга.
Орехов сел на траву, палку аккуратно положил рядом, и Блинчиков обнаружил, что никелированный шар на ней порядочно истёрся. Свернутое одеяло Орехов тоже положил рядом, пояснив:
– Надо беречь необходимую одежду!..
– Много странного в этом мире, Володя, – начал говорить он. – Видишь ли, я совершил даже некоторое открытие. Да, открытие! Можно укрепить свой организм без санатория и курорта. Открытие моё состоит в том, что я нашёл здесь, в этой речке, лечебную грязь. Я лежал в речке регулярно каждое утро, примерно с полчаса. Ранним утром – это такое приятное ощущение. Река, свежесть, волшебное тепло мягкого ила. Представь, я почувствовал, что больше не страдаю ревматизмом. Природа лечит! Действительно – лечит! – засмеялся Орехов.
– Это здорово, Женя, – сказал Блинчиков. – Ты стал крепким, ты нашёл! И я решил – поеду на природу! И встретил здесь тебя, конечно, живого. Нет, я чувствовал, что судьба сведёт нас в этом месте. И картины твои пока все целые, за мастерской я наблюдаю. Поедем сейчас ко мне, помоешься, переночуешь. И утром – за работу! Я знаю, ты найдёшь, что сказать холодному миру нашему своими новыми работами!.. И ведь что произошло? Ничего. Отдохнул, пожил в лесу. Всё равно, что жил на даче!
Тут Блинчиков заметил, что Орехов принялся тщательно отгонять травинкой комаров от лица, заросшего бородой, и восторг Орехова померк.
– Я не уверен, что хочу вернуться к общению с людьми, Володя. Я почему-то раздражаю их, по выражению твоему, сине – пупых. Замечать меня стали, и агрессивно замечать в этом местечке. Представь ситуацию: я лежу сегодня в своей импровизированной ванне и вижу – идут! Трое идут. Один в штатском, другой мальчик. Третий – милиционер. Вижу – мальчик пальцем указывает. Постояли они, а я лежу. И вижу – дальше накручивают, да так серьёзно. Милиционер идёт на меня и за кобуру хватается. Я испугался, даже одеваться не стал. Всё равно ведь одни мужики, женщин вроде не видно. Я встал, как лежал, обмываться даже не стал. Быстро подхожу к ним, а они – врассыпную. Да так серьёзно! Тогда я обмылся и запрятался в иву. Боюсь, не ищут ли меня? А в другое место идти настроения нет, и покупаться ещё здесь хочется!..
– Это всё очень глупо, Женя, – сказал Блинчиков. – Надо возвращаться к живописи, к работе. Вернись в мастерскую! И ничего никому не объясняй. Им всем, синепупым, нужно только одно: как бы набить карман, нахапать побольше. Какая ещё живая душа? Брось, никто душу не растит. Может, только ты или я! Возвращаемся вместе, Женя, ты спокоен, жив и здоров. И устал я вообще разговаривать со всеми, кто интересуется тобой. Сам появись, наконец!
– Я вернусь, но не сегодня, – сказал Орехов. – Я жду от Бога – оно должно произойти, потрясение души моей, и я познаю ещё раз сладость, так сказать, бытия. И тогда снова я возьмусь за работу!
«Какой излом! – думал Блинчиков, глядя на лежавшую в траве фигуру Орехова. – Трагический, страшный, глубокий излом. А ведь что произошло? Ничего. Ну, выпили, ну, троллейбус ушёл. Какой смертельный излом!»
Так и не уговорив приятеля вернуться вместе, Блинчиков успел к последней электричке. Деньги он Орехову отдал, какие имел, и Орехов их взял и пообещал клятвенно, что будет хотя бы звонить, и через две недели приедет в гости или вернётся в мастерскую. Блинчиков понимал, что надо прекращать эти нелепые поиски вечного, и выманивал друга из психоза, как мог. Он знал – Орехов клятвы сдерживает. А насчёт потрясения поэт рассчитывал накрутить потом, когда начнутся снова беседы за накрытым бумагой топчаном. Да и халтуру Орехову можно будет достать снова, для денег, чтобы не нищенствовал больше. Всё складывалось хорошо, казалось бы. Но, сидя в электричке, поэт с затаённым любопытством осмысливал ещё один рассказ Орехова о поисках вечного. Вот он, этот рассказ.
– Недавно, Володя, решил я переночевать в склепе. Около Лавры Александра Невского место одно есть неподалёку от официальной усыпальницы. Склеп замечательный, и прах хорошего русского человека здесь погребён. Я лежал в траве, отдыхал. Хорошо мне стало. Чувствовал я в себе в ту редчайшую минуту моей жизни озарение какое-то и легкость. Только, представь, вдруг слышу: собачка лает. Ко мне идёт кто-то и с собачкой. Я тогда нырнул в часовенку за лопаткой, чтобы сделать вид, будто пришёл сюда цветы посадить. Там она, лопатка, была, в часовенке. Вылез я наружу с лопаткой и начал подкапывать землю. Работой, дескать, занимаюсь – вот и оправдание моё, почему я здесь нахожусь. Смотрю, и собачка подошла ко мне, но не лает, успокоилась. Только кто-то позвал её, кажется: «Трезор! Трезор!» Это не важно, как. Суть в том, что они идут ко мне, а собачка вроде как на разведку послана. Я заподозрил это, потому что боязливо шли, медленно. Я тогда снова – прыг в часовенку. А тот подошёл, заглянул в моё убежище и накручивает дальше, да так серьёзно! «И ты, говорит, сюда примазываешься, Орехов? Теперь всё ясно, какой ты философ или псих. Давай, рой, может и повезёт. Забогатеешь! Хотя здесь другие уже рыли – и ничего не нашли. Умно ты обманывать умеешь, талант ты, в мире нашем ядрёном». Узнали меня и тут, видишь ли, Володя. Я знал и до этого, что как художник я известен, и это приятно, это льстит, с одной стороны. Но ведь опять оскорбили, и в какой-то глупости заподозрили, да так серьёзно!..
Прошла неделя, и наступила следующая. Вдруг пошли дожди, и художник Орехов вновь попался на глаза в полосатом, промокшем одеяле. В те дожди в буфете Союза художников допоздна собирались завсегдатаи, и уже к четвергу вспыхнул скандал: утверждали, что живописец Орехов вовсе не спятил, а просто удачно изображает спятившего, а сам потихоньку грабит склепы, сплавляет золотые монеты и перстни иностранцам, и что за ним охотится милиция. Утверждали даже, что и КГБ втянуто в это дело, поскольку Орехов связан с иконами и валютой давно! Просто никогда и никто не знал, какие дела он накручивал в соборах, когда делал вид, что подновлял иконы.
Приговаривали даже и повторяли, что Орехов уезжает скоро в Америку и, конечно, откроет там магазин, потому что богат и всегда был богат, но просто жмот, скряга! И доказывали этот факт тем, что все валютные покупные девочки теперь ловят его по ночам на Московском вокзале, куда он приходит, якобы, обсохнуть от дождей. Люди шумели, пили и бранились. Молчала только рыжая собачка Трезор, смотревшая в эту минуту своей собачьей жизни на людей преданно и серьёзно. Блинчиков, ущемленный и заводной, как все поэты-неудачники, не останавливаясь уже перед властью и законом, двинул кому-то в челюсть за распространение подлого вздора, и кто-то из сильных в ответ, не стесняясь, вывихнул ему руку в кисти. Руку перевязали в «Скорой помощи», а Блинчикова навели на мысль, что лучше не скрывать от всех правду: Орехов того! Но махинаций и спекуляций не было. И напрасно милиция так беспокоится и хочет опечатать мастерскую. И Блинчиков говорил вслух неправду, что Орехов всегда был того, но про себя упорно ждал клятвенной субботы и не спускал глаз с мастерской.
А между тем жизнь Евгения Александровича Орехова, в самом деле известного живописца, подошла к потрясению, которое суждено было ему пережить. Потрясение это произошло в ночь на субботу, на Московском вокзале, около полуночи. Орехов, греясь в зале ожидания, неожиданно увидел красивые, длинные ноги в пепельно-серых чулках. Он увидел эти ноги, и взгляд его, дрогнув, взметнулся выше и остановился на чёрной шляпке, с каким-то пронзительно жёлтым цветком, и на детском лице незнакомки и на её накрашенных помадой алых губах, сиявших спелой сочностью. Незнакомка глядела на него и не отводила настойчивого взора. Орехов смело подошёл к девушке.
– Я напишу ваш портрет, – сказал он. – Я живописец и, смею уверить, – вполне профессиональный живописец. Если вы согласитесь позировать мне для портрета, я вознагражу вас со щедростью короля! Вы останетесь навеки на этом холсте, во всей вашей необыкновенной красоте и юности!..
Он сделал поклон лёгким кивком головы и увидел под глазами девушки чёрную тень ресниц. По дороге в мастерскую Орехов не произнёс ни слова, стыдясь своего глуховатого, некрасивого голоса. Он только думал, что портрет надо написать на розовом, мерцающем фоне.
У двери в мастерскую он вспомнил, что в помещении неубрано. Он обернулся к своей спутнице и виновато сказал:
– Я не жил здесь в последнее время, и потому у меня неубрано. Но я вымою пол. Вы не пугайтесь, обстановка, конечно, бедная. Но согласитесь, что и короли, бывало, чувствовали себя нищими в некоторые суровые моменты их жизни. Нет, я не жадный, вы не подумайте. Просто сейчас…
Он замялся.
– Мы после поговорим о твоей щедрости, дурачок, когда увидишь меня и оценишь! – засмеялась незнакомка и запустила маленькую руку в бороду Орехова. – Какая у тебя борода дикая! Ты побрейся или подстриги её. Будешь красивее!
– Значит, ты полюбила меня? – разволновался Орехов. – Ты совсем юная, а я прошёл в жизни через такое!.. Правда, я нашёл, как говорит мой друг Блинчиков…
– Я блинов не ем, лучше мясное что-нибудь, – прервала его девушка.
Орехов рассмеялся.
– Ты не поняла! Это фамилия друга моего такая – Блинчиков. А поесть у меня ничего нет – шаром покати. Не жил я последние дни дома. Вот глупость! Знал бы, что встречу тебя, я бы торт купил. Нет, никого я больше в целом мире не встретил, только тебя нашёл. Целый клад! Это от Бога. Тебе кажется, наверное, странным то, что я говорю?
– Нет, не кажется, – отвечала девушка. – Нашёл так нашёл. Зачем всем рассказывать? Про иконы? Про старинные монеты? Надо учиться молчать о таком. Ты много болтаешь!
– Я больше не буду говорить, давай помолчим, – согласился Орехов.
Он включил свет.
– Фи, – сказала незнакомка, – какая пылища у тебя. Хотя бы простыня чистая найдётся? Время позднее. Пора в постель.
Девушка пристроила шляпу на топчан и мигом сняла платье через голову. Орехов увидел чёрное кружево белья, нашёл полотенце, закрыл им лицо и побежал к умывальнику.
– В шкафу! – крикнул он. – Простыня в шкафу! Отдыхай, я сейчас! Я быстро…
И он с яростью, с азартом резанул бритвой свои безобразно длинные и сальные волосы и сунул голову под горячую воду. Он взбил пену в волосах бороды и шлепнул в умывальник ногу, царапая белый кафель огрубевшей кожей пятки.
Он вытерся насухо полотенцем, сминая махровую ткань, наполняя её водой, омывшей его мощное, загоревшее тело, и посмотрел на себя в маленькое зеркальце над умывальником. Лоб был в царапинах, щёки – в порезах. Он был непохож сам на себя – вот чего стоило ему познание мира!