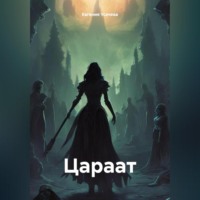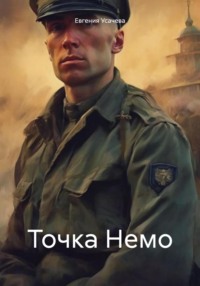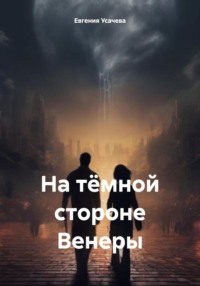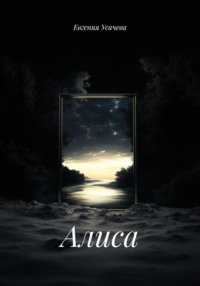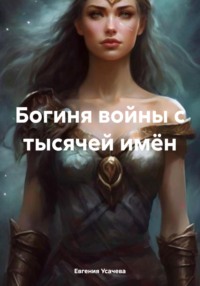Полная версия
Звездная сборка
«Что же я делала целыми днями?» – спросите вы.
В свободное время от процедур и перевязок Балдуина я рисовала. Полноценно рисовала красками на холсте. Арсений №2 подбил меня на авантюру. Я поступила в Художественную академию на заочное отделение, хотя не представляла, как поеду на первую свою сессию. Я решила договориться сдать все предметы ровно через четыре года экстерном. И либо получить диплом, либо не получить. Мне было всё равно, если честно. Я просто рисовала. Рисовала ради самого рисования. Мне нравилось рисовать только людей. И я рисовала тех, кто меня окружал: санитаров, главврача, Петра Игоревича, людей из посёлка. Но чаще всего я рисовала свою единственную настоящую любовь – Балдуина.
Знаете, иногда любовь бывает настолько сильна и огромна, что постепенно становится больше тебя. Это, я полагаю, и является единственным критерием её истинности. Если она больше тебя и всего, что имеет для тебя значение и во что ты веришь, значит, она настоящая. Она просто выходит за пределы твоей внутренней вселенной, она настолько колоссальна, что, как океан, выплёскивается из берегов разума. И вот ты уже начинаешь видеть её во всём, к чему прикасаешься. Всё потому, что ты источаешь вокруг эту любовь. Ты – её источник, а она – как бегущая строка в мозгу, как прошивка в ДНК. Ты занимаешься повседневными делами или хобби, едешь на работу или с работы, просто гуляешь либо стоишь в очереди в магазине после трудового дня, словом, можешь заниматься чем угодно, а в голове бьётся самая главная мысль, и её не перебить ничем: «Я люблю Его/Её». Вот тогда это будет навсегда, что бы ни говорили философы и поэты. И я твёрдо знала, что с Балдуином у нас как раз такой случай.
Оба Арсения в свободное от работы время сочиняли музыку – без надежды когда-либо исполнить её. А Саша давно забросил игру на фортепиано, погрязши в рутине и семейных обязанностях. Пётр Игоревич, ещё совсем не старый мужчина (ему едва исполнилось пятьдесят), давно списал свою личность со счетов и воображал себя дряхлым стариком, который ни на что более не способен. Будущее Балдуина было туманно, и моё рядом с ним – тоже.
3
Как-то раз к Арсению №2 приехала мать. И почему-то ей захотелось посетить место работы сына. Вообще, лепрозорий был закрытым учреждением, и туда не пускали посторонних, но Саша – добрый человек, поэтому пустил мать Арсения в стационар. Ради приличия она надела маску и белый халат.
Меня она сразу же узнала, видно, по рассказам своего сына.
– А вы – Мара, верно? – приветливо поинтересовалась мама Арсения елейным голосом.
Надо отдать ей должное – она оказалась лишена большинства идиотских человеческих предрассудков. Да и кого было бояться в лепрозории, кроме меня и Балдуина, тем более, что я была симулянткой, о чём, конечно же, знал Арсений. Он потрудился объяснить своей матери, что к чему. Бог его знает, что этот парень ещё наболтал ей про меня. Может, он уже навоображал себе, что я была его девушкой, профессионально рисовала картины и работала лечащим врачом Балдуина. В общем, мать Арсения смотрела на меня с восхищением, и мне становилось неуютно под её взглядом – ещё и потому, что он был незаслуженным, ибо ничего выдающегося я, в отличие от её сына, не делала. Это он сочинял музыку, а я так…
Пётр Игоревич учил меня врачебному делу, но конкретно в той области, которая соответствовала направленности лепрозория. Остальные болезни и их лечение меня не интересовали.
Людмила Дмитриевна привезла домашние закрутки, которые я терпеть не могла: помидоры, огурцы, перец. Полезным для меня оказалось лишь вишнёвое варенье, но большую часть банки съел Балдуин. Ему были нужны витамины.
Мать Арсения пробыла в городе недолго. Она тоже приглашала меня домой к сыну, но я отказалась, сославшись на занятия рисованием. Мать, наверное, думала, что я – его девушка. Я не стала её в этом разубеждать. Пусть бы её сердце порадовалось за сына, если такая обстановка вещей вызывала в нём радость.
***
Однажды так получилось, что Арсению №2 пришлось присматривать за Балдуином, а мы с Петром Игоревичем и Арсением №1 отправились в посёлок. Кому-то стало плохо.
В начале посёлка, у самого первого дома, мы увидели женщину, сидящую на скамейке. Поначалу мне показалось, что с ней всё в порядке. Она улыбнулась Петру Игоревичу и приветливо поздоровалась с нами. Врач справился о её самочувствии, и после недолгого разговора я поняла, что она ничего не видела. Болезнь «съела» её глаза, погрузив в вечный мрак. Она не видела даже солнечного света. Мой парень тоже боялся полностью ослепнуть, хотя считал, что и в этом случае останется один плюс: он не будет видеть всего того ужаса, что происходит с его телом. А никакого такого ужаса и не происходило, в общем-то. Меня возмущало, когда он начинал говорить о себе плохо и принижать себя.
Да мне! Мне было абсолютно всё равно, как он выглядел! Я любила его за душу, характер, те неповторимые черты личности, которых не было больше ни у кого на свете. Я любила его просто за то, что он есть. Я не могла жить, дышать без него. Всё Мироздание сосредоточилось для меня в одном-единственном человеке. И всё остальное было неважно.
Я слышала десятки печальных историй больных, каждая из которых потянула бы на полноценный роман, но в своём повествовании привожу лишь некоторые из них, особо меня зацепившие, и то – в сокращениях. Жаль, слова неспособны передать всю гамму чувств, что я испытывала в лепрозории, но я надеюсь, что им под силу хотя бы описать обстановку того места и атмосферу, царившую в нём.
Что я могла сказать о домах? Вероятно, всем представлялись какие-нибудь захудалые развалюхи. Что ещё могли построить бывшие «прокажённые»? Именно так все и думали. У всех было именно такое представление, что «прокажённые» – не способные ни на что инвалиды.
У меня с рождения отсутствовала кисть правой руки, и большинство встреченных мною людей считали меня слабым и неспособным ни на что инвалидом. Они настолько убедили меня в этом, что я и сама стала считать себя слабым, ни на что не годным и не способным инвалидом.
А бывшие пациенты лепрозория отнюдь не являлись таковыми. Среди них были настоящие мастера своего дела, так что и дома у них выходили приличные, и мебель собственного производства могла посоперничать с заводской, и одежду они шили такую, что любой цех позавидовал бы, и готовили еду отменно – в общем, что говорить…
Пока мы шли по посёлку, а нужный нам дом оказался предпоследним, Арсений №1 развлекал нас рассказами:
– Однажды в детстве со мной произошёл несчастный случай, – начал он. – Я побежал на заброшенную стройку и гулял по открытым недостроенным этажам, как вдруг оступился, подойдя слишком близко к краю, и сорвался вниз. Я хотел лишь полюбоваться закатом и засыпающим городом вдалеке, и не заметил, как оступился и сорвался. Я вообще в глубине души, втайне ото всех, любил унылые безлюдные места, вроде заброшенных строек, заводов, кладбищ… А все считали меня таким солнечным мальчиком. Как же глубоко они ошибались! Но солнце я всё же любил. Именно в таком виде, на закате, когда оно, садясь, золотило колышущуюся степь и отсвечивало огнями в оконных стёклах. И надо ж было несчастному случаю произойти в такой любимый мною благословенный момент! Падая, я зацепился полами куртки за деревянные леса, которые значительно смягчили моё падение. Они задержали моё хлипкое тельце, благодаря чему я грохнулся на землю не с высоты десяти метров, а всего лишь с двух. Я чудом ничего себе не сломал в тот момент, но сломал что-то в лесах, из-за чего следом за мной мне на голову приземлилась какая-то мелкая железка. Она ударила меня по лбу, и я сразу же потерял сознание. Последним, что я увидел, было безоблачное сиренево-синее небо. Оно расплывалось в моих глазах блёклым пятном до тех пор, пока мозг не перестал воспринимать поступающую информацию. Меня поглотила тьма. Когда я пришёл в себя, было уже поздно, на небе зажглись звёзды. Громадный ковш Большой Медведицы сиял над безмолвной степью. Слышались навязчивый стрёкот сверчков в траве и далёкий лай деревенских псов. Я встал на ноги, отряхнулся и с ужасом осознал, что по возвращении, меня, наверное, будет ждать неминуемая взбучка от родителей за то, что я так припоздал. Что они могли пережить и передумать за всё то время, пока я лежал в отключке, мне тогда не приходило в голову. А меня на тот момент уже разыскивали с собаками по всему селу.
Голова гудела нещадно. На лбу вздулась лиловая шишка, отчего весь череп стал казаться непропорциональным, как у инопланетянина. А я в них тогда ещё верил. С того дня моя жизнь сильно изменилась… Я стал… слышать музыку. Я слышал её повсюду: в шелесте листвы, вое ветра, шуме дождя. Улавливал невиданные, удивительные созвучия, разглядывая звёзды глубокими вечерами или провожая солнце за горизонт, любуясь его последними лучами. Я пытался записывать услышанную музыку. Родители, видя мои склонности музицировать, наняли мне хороших учителей. Но я никак не мог понять, сочиняю ли музыку сам, либо просто записываю услышанные в далёких космических сферах созвучия, чудом просочившиеся на Землю. Они поражали мой детский разум своей необычной гармонией. Иногда музыка пугала меня. Теперь я понимаю, что та железка, опустившаяся мне на голову вследствие несчастного случая, скорее всего, пробудила какие-то потаённые участки мозга, отвечающие за творческое, созидательное мышление. Если б не тот фееричный удар по голове, я бы, скорее всего, так и остался бы обычным мальчишкой и не связал свою жизнь с музыкой. Хотя… если так разобраться, я её с ней и не связал в итоге…
В голосе санитара послышалось разочарование. После столь яркого красочного рассказа так непривычно было слышать ноты уныния в его таком жизнерадостном голосе.
– Ну-ну, полно тебе! – пожурил его Пётр Игоревич. – Какие твои годы, Арси? Всё ещё будет! Вот придут новые времена, жизнь наладится, и исполнишь ты свою мечту. Поверь, в этой жизни каждый становится тем, кем втайне мечтает стать…
Весьма опрометчивое заявление. Арсений №1 хотел ещё что-то рассказать, но наш путь подошёл к концу.
Пётр Игоревич привёл нас к дому со светло-голубой облицовкой. На участке, окружавшем дом, росли сирень и тюльпаны. Недавно хозяева высадили молодые плодовые деревца. Суждено ли им было дождаться их плодов или хотя бы их цветения? Начиналась осень. В наших краях она была чудесной: тёплой, сухой, солнечной, и напоминала весну, но никак не осень. Всё стояло зелёное, только листья тополей слегка золотились и загибались по краям.
От калитки к дому вела узкая дорожка, посыпанная гравием. Придомовая территория и сам дом выглядели ухоженными.
Почему-то мне было страшно заходить в тот дом, хотя я никогда не боялась пациентов. Но тот дом… Почему-то от него веяло какой-то опасностью.
Нас никто не встретил. На столе в кухне сиротливо стояли чашки с коричневым ободком. В распахнутые окна ворвался ветер, колыша занавески и неся с собой запах дождя. По дому гулял сквозняк.
В спальне на кровати мы обнаружили пожилую женщину без сознания. Её лицо было покрыто красными пятнами. Она тяжело дышала.
Пётр Игоревич привёл её в чувство, оказал первую медицинскую помощь. Он подозвал Арсения №1, чтобы тот помог женщине сесть, а мне велел отойти.
– Что это, Пётр Игоревич? – обеспокоенно спросила я.
– Похоже на ветрянку, – ответил он. – Ты болела в детстве?
Я помотала головой.
– Тогда что стоишь? Вон из дома!
Врач выпроводил меня. Он изначально был против, чтоб я шла в посёлок. Да я и сама не знала, зачем увязалась за ними. Наверное, чтоб сбежать подальше от Арсения №2.
Ветрянка… Подумаешь? Как можно бояться ветрянки в лепрозории? Там всегда есть нечто пострашнее… Но Петра Игоревича я всё же послушала и вышла во двор.
Да, интересно, откуда только она могла взяться? На обратном пути врач сказал, что к больной недавно приезжали родственники. Они, наверное, и принесли заразу.
Течение болезни было не тяжёлым, так что пациентку не стали госпитализировать, тем более, она сама отказалась.
– Вы одна живёте? Кто же за вами присмотрит? – поинтересовался Пётр Игоревич.
– Соседи. Они у меня добрые, хорошие люди.
Врач сощурился, припоминая, кто жил в соседнем доме. Кажется, Павел Иванович с женой.
Выйдя тогда из дома на крыльцо, я заметила какое-то шевеление в соседнем дворе. Я уже открыла рот, чтоб поздороваться, но замерла в нерешительности. Мы хорошо друг друга видели через низенький забор, но прихрамывающий мужчина специально не поворачивался ко мне лицом. Так я догадалась, что его, наверное, просто не было. А так обычно бывшие пациенты всегда были приветливы.
Я тяжело вздохнула и мысленно пожелала ему здоровья.
Тут на крыльцо вышел Арсений №1 и с присущей ему беспардонностью и грубостью громко окликнул мужчину:
– Эй, сосед! Слышишь? У Екатерины ветрянка, так что поосторожнее там… Не хватало ещё, чтоб весь посёлок слёг!
Я вздрогнула от такого фамильярного обращения и неприязненно посмотрела на санитара. Как-то раз Арсений №1 цинично сказал мне, что «прокажённые» – не фарфоровые вазы, и нечего с ними «сюсюкаться». Конечно, он не был в восторге от своей работы. Только с Балдуином Арсению было по-настоящему интересно, и он любил проводить время с ним, нисколько не замечая его болезни. С ним Арсений №1 себя вёл почтительно, словно не санитар, а личный раб, и старался всегда угодить. Разумеется, ни одного грубого слова никогда не сорвалось с его уст в адрес моего парня. Балдуин смог как-то сразу «прогнуть» своего санитара под себя, с Арсением №2 этого пока не вышло в силу его более сильного и независимого характера, поэтому они держали дистанцию друг с другом.
– Эй, кому говорю! Мужик! Ты глухой, что ли? – требовательно позвал санитар, видя, что на его слова не последовало никакой реакции.
– Да Арсений! Хватит! Не видишь, что человек… – возмутилась я, но тут же спохватилась.
– Что «человек»? Что «человек»? – нервно зацепился он.
– Не расположен к общению…
– Ага! Они тут все слягут, не дай Бог, а нам с Арсением потом разрывайся?
– Как будто вы так устали! Надорвались бедные, одного пациента обслуживать!
– Да! Уработались, знаешь!
Нашу перепалку прервал Пётр Игоревич, вышедший на крыльцо. При нём Арсений №2 не позволял себе вольностей.
– Арсений, будь добр, отнеси медицинские маски соседям на всякий случай, – сказал врач и протянул ему пакет.
Он не заметил того, как санитар поморщился, а может, просто сделал вид.
– Я отнесу, – сказала я.
Пётр Игоревич благодушно улыбнулся.
4
На обратном пути врач поведал тяжёлую историю Екатерины Антоновны, женщины, дом которой мы покинули. Когда-то у неё была, в общем-то, самая обычная семья: муж, двое сыновей. Старший окончил университет и собирался жениться. Вскоре он съехал от родителей. Они с невестой сняли квартиру. Младший готовился к поступлению. В то роковое лето родители решили перевести из деревни старого отца главы семейства.
Дед был ещё весьма крепок физически, а вот душевное здоровье его подводило. Он впал в глубокий маразм, и даже в редкие моменты просветления с ним с трудом удавалось нормально поговорить. Родители целыми днями пропадали на работе. Младший сын вынужден был подолгу оставаться с выжившим из ума стариком наедине. Он старался не обращать внимания на его причуды, стоически терпел несправедливые обвинения, а бывало, и оскорбления в свой адрес, даже не повышал голоса. В основном, закрывался в своей комнате и целыми днями готовился к поступлению в институт. Но то, что произошло далее, разом перечеркнуло его будущее.
Больному деду, видимо, что-то привиделось, и он начал обвинять своего младшего внука (а на тот момент дед уже не понимал, что молодой человек, живущий с ним в одной квартире, его внук), что тот его, якобы, бьёт, когда они остаются наедине. Что самое страшное – родители поверили в это! Младший сын был трудным подростком. Своенравным. Порою эгоистичным. Он неоднократно скандалил с родителями, если ему что-то не нравилось, но! Моральный компас в нём всё-таки не был сломан. Он ни при каких обстоятельствах не поднял бы руку на родного деда, да и вообще – на пожилого человека!
Несмотря на уговоры родителей парня, дед написал заявление в полицию. Разбираться в этом деле прислали молодого, неопытного, но очень наглого и желающего выслужиться перед начальством стажёра. Он сразу же начал давить психологически на «подозреваемого». На тот момент ему уже исполнилось восемнадцать лет, а значит, светил реальный срок на взрослой зоне. Обо всех её ужасах юный недоследователь рассказывал во всех красках, будто сам там отсидел, и вынуждал «подозреваемого» сделать чистосердечное признание. В чём ему было сознаваться, если он ничего не совершал? Жизнь уже была перечёркнута: хоть делай признание, хоть нет, его ждали тюрьма, позор, всеобщее осуждение и лишь мрак впереди. В отчаянии парень покончил с собой. Лишить себя этой испорченной жизни показалось наилучшим исходом. А буквально через два дня пришли результаты медицинского освидетельствования, в которых говорилось, что синяки на теле старика появились не вследствие насильственных действий, а из-за болезни сосудов.
Из-за смерти сына у отца случился инсульт. Он умер спустя неделю в больнице, а у матери, Екатерины Антоновны, из-за пережитого стресса открылись язвы: вернулась, точно восстав из мёртвых, давно забытая болезнь, задушенная могущественной советской медициной ещё в её глубоком детстве. Дремавшая в теле инфекция, считавшаяся полностью уничтоженной, ждала своего часа почти сорок лет! Вот так эта женщина и попала в наш лепрозорий, уже не надеясь никогда из него выйти. Лишь в лепрозории её разум прояснился, и она, наконец, осознала чудовищную ошибку, которую совершила в своей жизни. «А зачем теперь мне на волю? – говорила она. – Даже если я излечусь, то не выйду отсюда уже из принципа. Мне невыносимо осознавать, что я стала виновницей смерти своего сына. Я разрушила свою семью. Я разрушила всё, что у меня было. И теперь у меня ничего нет. Я заслужила эту Болезнь. Пусть она сделает своё дело».
Инфекцию удалось снова подавить, причём довольно быстро, и теперь Екатерина Антоновна жила в тихом доме в посёлке бывших прокажённых, осознав свои ошибки, но так и не простив себя. Хотя в большей степени был виноват её муж. Он был строгим, непримиримым человеком. Сыновей держал в ежовых рукавицах. С младшим у отца постоянно возникали конфликты, много раз он ловил его на лжи. Не поверил сыну и в тот раз, когда он не был виноват, что и привело к страшной трагедии.
Екатерина в те ужасные дни металась между молотом и наковальней, пытаясь образумить и успокоить всех. Она слёзно умоляла следователя не заводить дело, что они в своей семье сами разберутся, но тот рад был выслужиться, и его нисколько не волновала судьба молодого парня, у которого рушилась жизнь. Неизвестно, верил ли следователь ему сам. Даже если и верил, вряд ли б упустил случай так легко засудить человека и получить за это премию или повышение.
Эта история шокировала меня до глубины души. Но Пётр Игоревич, видно, давно привык к таким жизненным перипетиям своих пациентов. Его больше ничего не удивляло и не шокировало в этой жизни.
– Ей надо было выйти из лепрозория и отомстить, – зло сказал санитар Балдуина, которого этот рассказ тоже возмутил.
– Кому?
– Кому-кому… Следователю! Хотя, назвать его следователем не поворачивается язык.
– Сына-то это уже не вернёт, и семью не восстановит… А что стало с тем дедом? – спросила я врача.
– Не знаю, – пожал плечами Пётр Игоревич. – Да и какая разница? А отомстить… Месть ничего не может исправить. Она может только разрушить всё ещё больше, и ещё больше людей сделать несчастными.
– Многие удивляются, почему в мире так много зла. А я скажу: из-за бездействия добрых людей! – многозначительно произнёс Арсений.
– Разве ж тогда можно называть их добрыми, если они бездействуют?
Санитар зря умничал. Петра Игоревича ему было не переубедить.
– Зло должно быть наказано. Всегда. В любом случае. И неважно, сколько прошло лет. Это моё мнение!
– Бог ему судья. Тому следователю. Ну, а парнишка тот… Ему нужна была поддержка, которую ему никто не оказал, включая родителей. Скорее всего, у него изначально были какие-то психологические проблемы, иначе он бы не решился на самоубийство. Но на них никто не обращал внимания. И если б не случай с дедом, возникла бы другая пограничная ситуация, с которой парень не справился бы. Ему требовалась помощь психолога, но на его проблемы просто никто не обращал внимания.
– Да, печальная история. Как из-за безразличия может разрушиться жизнь целой семьи… – с сожалением сказала я.
– К сожалению, это было во все времена. И будет. Людям так тяжело понимать друг друга. Даже внутри семьи.
У Петра Игоревича у самого был печальный опыт. Он говорил с большим сожалением.
– Кстати, Мара… – вдруг вспомнил он. – Ты отнесла медицинские маски соседям?
– Конечно, – отозвалась я. Мне хотелось ещё кое-что спросить, но я всё никак не решалась. До здания стационара оставалось уже совсем ничего. Пётр Игоревич не успел бы рассказать новую печальную историю, если б вообще захотел её рассказывать. Да и неловко было как-то расспрашивать, но любопытство и жажда познания в итоге взяли верх.
– Пётр Игоревич… А расскажите, что случилось с тем мужчиной… соседом Екатерины Антоновны. Как он попал в лепрозорий?
Врач, казалось, даже удивился моему вопросу.
– Тебе это в самом деле интересно?
– Угу. Очень.
– Лучше этого не знать, – коротко ответил он. – Впрочем… тут любую историю лучше не знать.
Я думала, он ничего не расскажет, к тому же, мы уже почти пришли, но Петру Игоревичу, по-видимому, были нужны собеседники, хотелось общения. Он предложил нам вместе выпить чаю у него в кабинете.
– Он здесь не из-за Болезни, – вдруг сказал Пётр Игоревич, делая горячий глоток.
Я сразу же встрепенулась.
– Как? Он – симулянт? Но… Его лицо… Я видела…
Конечно, я не могла подобрать подходящих слов и находилась в растерянности. Да и не нужны они были. Слишком это было тяжело. Да и неважно, в принципе. Наверное, лишь в лепрозории люди учились ценить душу, а не внешность.
– С ним… С ним произошёл несчастный случай.
Врач опустил взгляд в чашку. Ему не хотелось ничего рассказывать. Но вместе с тем хотелось выговориться, будто это была его личная история.
Я слушала её с замиранием сердца, как и историю Екатерины Антоновны.
Когда её соседу было семнадцать лет, с ним случилось большое несчастье. В то время он жил в деревне, и был абсолютно здоровым молодым человеком. Как-то раз вместе с деревенскими ребятами поехал отдохнуть на речку. Ничто не предвещало беды, но к вечеру разразилась гроза, и компания поспешила домой. По дороге машина застряла на размокшей грунтовке. Павел вместе с остальными выскочил наружу, чтобы толкнуть увязший автомобиль, но колёса будто вросли в землю. У друзей ничего не получалось сделать, а тут ещё стихия разбушевалась не на шутку. Дождь хлестал, как сумасшедший. Ветер нещадно гнул деревья, на землю падали выломанные ветки. Вскоре начался град.
Парни решили переждать грозу в машине, но Павлом в тот момент будто овладел какой-то злой дух, решивший свести его в могилу. Он жаждал во что бы то ни стало сдвинуть машину с места. Им овладел дикий азарт.
Вскоре раздался самый мощный раскат грома. Что-то сверкнуло, и столб линии электропередач тяжело повалился на землю всего в паре метров от автомобиля. Одновременно Павел поскользнулся на дождевой жиже и упал лицом прямо на оголённый провод, находившийся под напряжением.
Он мгновенно потерял сознание. Его друзья даже не сразу сообразили, что произошло. Всё случилось очень быстро. Когда они выскочили из машины, то увидели своего друга лежащим ничком на промокшей земле. Он не шевелился. Его тело слегка потряхивало. Всё вокруг было мокрым. Один парень попробовал оттащить его, но получил удар током, едва прикоснувшись к телу друга. Все в шоке метались вокруг места трагедии, не зная, что делать. Наконец кто-то нашёл в машине сухой кусок черенка от лопаты, и с помощью него всё-таки удалось сдвинуть бездыханное тело Павла с провода. На его конце серебрились стрекочущие желобки электричества. Все пребывали в ужасе от случившегося. Кто-то додумался позвонить в «скорую», но связи не было из-за дождя. Решили везти парня в больницу сами. Тогда у всех из-за стресса будто открылось второе дыхание. Автомобиль, намертво застрявший в грязи, поддался с одного толчка. До больницы гнали, как бешеные. Павел не приходил в себя. Его лицо приобрело красно-коричневый оттенок и распухло. Брови и ресницы полностью сгорели. Половину волос обсмолило. Пульс еле-еле прощупывался. В таком тяжёлом состоянии пострадавшего привезли в районную больницу. Врачи сразу же сделали переливание крови. Хотели сделать операцию по пересадке кожи, но ожог от электричества затронул более глубокие слои тканей, поэтому операция не имела смысла. Да и компетентность почти сельских врачей в случае такой серьёзной травмы оставляла желать лучшего. Спустя две недели безуспешного лечения Павла повезли в областной ожоговый центр. Только там ему более-менее помогли. Реабилитация длилась более двух лет, но и после неё несчастный парень так и не восстановился. Всё его лицо покрывали жуткие красные шрамы и рубцы. Хорошо хоть зрение удалось сохранить. Он вернулся в родную деревню и боялся выходить из дома. Ни о какой учёбе или работе не могло идти и речи. По понятным причинам. Невозможно себе представить всю глубину отчаяния, в котором находился человек, переживший такую трагедию. В ста километрах от деревни, в которой жил Павел, находился наш лепрозорий. Спасительная мысль пришла ему в голову спустя пару месяцев. Молодой человек решил отправиться туда, где его не будут сторониться, где им не будут пренебрегать, где он не будет отверженным, – в то место, в котором он будет со всеми на равных. У Павла были золотые руки. Он мог работать плотником, сантехником, ремонтником. Рассчитывал, что в лепрозории ему найдётся место. А инфекция… Такой ерунды, как микробы, Павел не боялся. И теперь, после всего пережитого, ему было абсолютно всё равно, заразится он или нет.