
Полная версия
Ветер крепчает
Какое-то время он колебался, раздумывая, посидеть ему в домике еще немного или покинуть это место. Попугай все так же подражал человеческим голосам. Но птичья речь была невнятной: разобрать ничего не получалось, сколько ни вслушивайся. И это как будто вносило путаницу в мысли и чувства.
Молодой человек резко поднялся из-за стола и неловкой походкой вышел из домика.
Снаружи дожидалась пара упавших в траву велосипедов: сцепившиеся рули – словно сплетенные руки – придавали им весьма любопытный вид.
В это время за спиной послышался заливистый смех баронессы.
Он почувствовал, как в ответ на эти звуки внутри занимается что-то вроде нескладной фальшивой мелодии.
Неблагозвучие. Именно так. Не иначе, приглядывающий за ним пустоголовый ангел-хранитель временами начинал бренчать на расстроенной гитаре.
Бестолковость собственного заступника неизменно повергала молодого человека в изумление. Ни разу еще ангел не сдал ему хорошей карты – той, что подходила бы случаю.
Дело было как-то вечером.
Молодой человек, испытывая странное, неодолимое чувство опустошенности, возвращался темной дорожкой из коттеджа девушки к себе в отель.
По пути он заметил, что кто-то движется из темноты ему навстречу: молодая европейская пара.
Мужчина светил вниз, на дорожку, электрическим фонариком. Но иногда направлял луч на свою подругу. И тогда в маленьком круге яркого света вспыхивало ослепительное женское лицо.
Мужчине приходилось глядеть на подругу почти снизу вверх – она была намного выше. С такого ракурса лицо ее выглядело ликом святой или божества.
Секунда – и мужчина вновь направлял луч себе под ноги, в непроглядную темноту.
Расходясь с ними на дорожке, молодой человек обратил внимание, что руки их переплетены, точно инициалы в вензельке. После этого, оставшись один, во тьме, он испытал пугающе сильное возбуждение. Захотелось даже умереть. Ощущения были чрезвычайно похожи на те, какие возникают после прослушивания бездарного музыкального опуса.
На этот раз, пытаясь избавиться от подобного же рода гармонического потрясения, он принялся бесцельно бродить по округе. И вскоре вышел на незнакомую тропинку.
Возможно, потому, что прежде ему ходить по ней не доводилось, он предположил, что ушел уже довольно далеко от городка.
Ему вдруг показалось, будто кто-то зовет его по имени. Он огляделся вокруг, но так и не понял, кто мог его окликнуть. Подумал, что все это очень странно, и тут же снова услышал свое имя. На этот раз оклик прозвучал несколько отчетливее, поэтому молодой человек повернулся на голос: в той стороне, на поросшем густой травой пригорке, примерно в трех сяку[3] над тропинкой, он увидел стоящего перед холстом мужчину. Пригляделся – и узнал одного из своих друзей.
С немалым трудом пробрался наверх и подошел к приятелю. Однако тот ничего ему не сказал: все его внимание было посвящено холсту. Молодой человек решил, что лучше, пожалуй, друга не отвлекать. Поэтому просто присел рядом и стал молча изучать недописанную картину. Время от времени он пытался найти тот фрагмент открывающейся с пригорка панорамы, который служил основным мотивом картины. Однако ничего похожего в окрестных видах распознать не мог. Возможно, потому, что различал на полотне лишь цветной водоворот из объектов, отдаленно похожих на рыб, мелких пташек и цветы.
Полюбовавшись какое-то время на это непонятное творение, он наконец тихонько поднялся на ноги. Друг, оторвавшись от работы и подняв на него взгляд, сказал:
– Ладно, перед смертью не надышишься. Я сегодня возвращаюсь в Токио!
– Сегодня? Но ведь картина еще не закончена?
– Не закончена. И все-таки мне обязательно нужно ехать.
– Почему?
Вместо того чтобы ответить, друг снова посмотрел на холст. Какое-то время взгляд его, похоже, оставался прикованным к одной-единственной точке на картине.
* * *Он первым вернулся в отель и сел в салоне дожидаться друга, с которым они договорились вместе пообедать.
Высунувшись из окна салона, задумчиво разглядывал подсолнухи, которые цвели во внутреннем дворике. Подсолнухи вытянулись выше рослых европейцев.
С расположенного позади отеля теннисного корта слышались бодрые удары ракеток, похожие на хлопки, с какими откупоривают шампанское.
Внезапно он встал. Пересел к столику у окна. Затем взял ручку. К сожалению, писчей бумаги в дополнение к ручке на столике не нашлось, поэтому он набросал несколько кривых, расплывающихся строк на заботливо положенном рядом листе промокательной бумаги.
Отель – попугай.Из птичьего уха выглядывает лицо Джульетты,вот только Ромео нет – он,должно быть, на теннисном корте, играет.Попугай открывает рот —и вот пожалуйста: перед вами затянутый в черное кукловод.Он хотел перечитать написанное, но чернила окончательно расплылись, и он не смог разобрать ни слова.
Тем не менее, когда подошедший с небольшим опозданием приятель мимоходом заглянул в исписанную промокашку, тут же перевернул ее.
– Мог бы и не прятать.
– Это так, ерунда.
– Я все отлично знаю!
– О чем ты?
– Кто-то позавчера любовался отменными видами.
– Позавчера? А, ты об этом…
– Так что сегодня угощаешь!
– Не выдумывай! Из мухи слона делаешь…
«Мухой» была совместная поездка с Фантазией и ее матерью к подножию вулкана Асама.
Та самая поездка, «только и всего». Опять вспомнились слова, сказанные тогда матерью Фантазии. И кровь сразу бросилась в лицо.
Друзья перешли в обеденный зал. Пользуясь возникшей паузой, молодой человек сменил тему разговора.
– К слову, а что ты думаешь делать со своей картиной?
– С картиной? Оставлю как есть.
– Не жалко?
– Ничего не поделаешь. Хорошие тут места, первый сорт, но писать их замучаешься! В прошлом году тоже приезжал сюда на пленэр – и все впустую. Воздух слишком чистый. На самом дальнем дереве каждый листочек в мельчайших подробностях различить можно. И все, встает моя работа!
– Хм, вот, значит, как…
Рука, черпавшая ложкой суп, замерла: молодой человек задумался о своем. Возможно, одной из причин, по которой отношения с Фантазией развивались совсем не так, как чаялось, была как раз излишняя чистота здешнего воздуха, позволявшая им наблюдать друг в друге малейшее движение сердца? Хотелось бы верить, что все дело в этом.
Затем пришла другая мысль. Быть может, ему самому в скором времени не останется ничего иного, как вновь покинуть нагорье, удовольствовавшись – по примеру товарища, который отбывает нынче в Токио с недописанной картиной в руках, – незавершенной Фантазией а-ля Рубенс, ибо едва ли что-то изменится в ближайшие дни.
После обеда он проводил друга до окраины городка и в одиночестве отправился к коттеджу дам.
Дамы как раз пили чай. Глядя на молодого человека, мать Фантазии, будто что-то неожиданно вспомнив, предложила дочери:
– Не покажешь свои фотографии? Где ты в той люльке.
Девушка с улыбкой вышла в соседнюю комнату за снимками. Тем временем в его глазах уже разливался рыжевато-коричневый, грибной оттенок старинных фотографических карточек ее детских лет. Вернувшись из соседней комнаты, девушка протянула ему две фотографии. Но обе выглядели настолько свежими, что он растерялся: похоже, они были сделаны совсем недавно. Девушку запечатлели сидящей в глубоком плетеном кресле; снимали, судя по всему, этим летом, в разбитом возле коттеджа садике.
– Какая вышла удачнее? – спросила она.
Молодой человек, слегка сконфуженный, близоруко сощурился и попытался сравнить карточки. Потом по какому-то наитию ткнул в одну из них. При этом палец его слегка коснулся щеки изображенной девушки. А почудилось ему, будто он коснулся розовых лепестков.
Мать Фантазии, забирая у него вторую фотографию, спросила:
– Но здесь, мне кажется, она больше похожа на себя, вы не находите?
Стоило об этом заговорить, и он тоже заметил, что второй снимок обладает бо́льшим портретным сходством. Тогда как первый, понял он, в точности воспроизводит грезу, порожденную его воображением, – его Фантазию а-ля Рубенс.
Спустя немного времени ему вспомнился давешний рыжеватый флер старины, который сам собою исчез вместе с появлением снимков.
– Вы упомянули люльку. А где же она тут?
– Люльку?
На лице женщины отразилось непонимание. Но озадаченное выражение почти сразу ушло. Его сменила обычная, весьма узнаваемая улыбка – ласковая и одновременно слегка насмешливая.
– Я имела в виду это плетеное кресло!
Во все последующие послеполуденные часы между ними царила столь же приятная, неизменно спокойная атмосфера.
Но были ли это часы счастья, которых он ждал с таким нетерпением?
Когда он находился вдали от дам, ему отчаянно хотелось их видеть. Желание это было настолько сильно, что он в конце концов из личной прихоти создал свою собственную Фантазию а-ля Рубенс. А после загорелся желанием понять, насколько созданный образ похож на реальную девушку. Отчего стремление видеться с дамами постепенно лишь усиливалось в нем.
Однако, оказываясь, как теперь, в их компании, он получал удовольствие от одного лишь соседства с ними: о большем мечтать было невозможно. Вплоть до настоящего момента все тревоги и заботы, как то: похожа ли придуманная девушка на реальную, – в их присутствии забывались сами собой. А все потому, что он хотел как можно полнее прочувствовать, что находится подле них, вместе с ними, и ради этого приносил в жертву все прочее, включая, разумеется, выданный самому себе загодя урок выяснить, насколько полно образ отражает реальность.
И все же порой его посещало чувство – правда, весьма смутное, – что сидящая перед ним девушка и девушка, нарисованная его воображением, – два совершенно разных существа. Возможно, живому человеку недоставало той самой нежности кожи, что отличала главную героиню его недописанной Фантазии а-ля Рубенс, – нежности, свойственной розовым лепесткам.
Эпизод с двумя фотографиями позволил ему несколько отчетливее уловить это отличие.
Спустились сумерки; он в одиночестве возвращался по слабо освещенной дорожке в отель.
В это время внимание его привлекло движение за росшими вдоль дорожки деревьями: какое-то непонятное существо забиралось на ветку высокого каштана и беспрерывно ее раскачивало.
Вспомнив вдруг о своем бестолковом ангеле-хранителе, он обеспокоенно поднял голову, и в этот момент с дерева неожиданно спрыгнул темно-бурый зверек. Это оказалась белка.
– Глупый грызун! – невольно пробормотал молодой человек.
Закинув хвост на спину, белка в панике помчалась по темным зарослям прочь. Он провожал взглядом зверька до тех пор, пока тот не пропал из виду.
Неловкий ангел
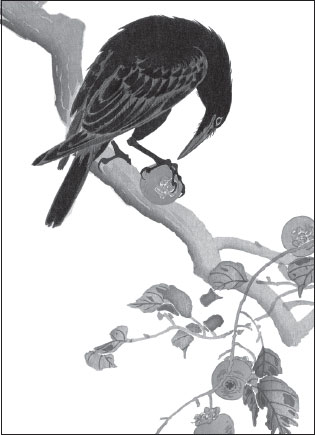
1
В кафе «Сяноару»[4] яблоку негде упасть. Толкнув стеклянную дверь, я захожу внутрь, но приятелей своих замечаю не сразу. Ненадолго замираю у порога. Джаз обрушивается на мои пять чувств сырой сочной плотью. В это время взгляд мой выхватывает из толпы смеющееся женское лицо. Я подслеповато вглядываюсь. Женщина поднимает белую руку. И вот тогда – под ее рукой – я наконец обнаруживаю своих товарищей. Двигаюсь в их сторону. И даже когда прохожу мимо той женщины, линии наших взглядов пересекаются, но не совпадают.
Вокруг столика сидят трое молодых людей; все трое молчат – оркестровая музыка их явно не радует. Когда я подхожу, они приветствуют меня лишь короткими взглядами. На столике в сигаретном дыму холодно поблескивают стаканы с виски. Я подсаживаюсь и присоединяюсь к их молчанию.
Каждый вечер я встречаюсь с ними здесь, в этом кафе.
Мне двадцать. До сих пор я жил почти в полном одиночестве. Но в силу возраста оставаться дольше в покое, который позволяет вести настолько замкнутую жизнь, уже не мог. К исходу нынешней весны, когда она начала превращаться в лето, мне сделалось совсем невыносимо.
Как раз тогда друзья, собиравшиеся в кафе «Сяноару», позвали меня с собой. Мне хотелось произвести на них хорошее впечатление. И я согласился. В тот вечер я повстречался с девушкой, от которой был без ума один из моих приятелей, Маки, мечтавший «сделать ее своей».
Девушка звонко смеялась под звуки оркестровой музыки. Ее красота напомнила мне вызревший плод, готовый в любую секунду упасть с ветки дерева. Его нужно было сорвать до того, как он упадет.
Она находилась на грани, и это привлекало.
Маки желал ее с жадностью измученного суровым голодом. Его страстное желание пробудило и во мне зачатки страсти. С этого начались мои злоключения…
Неожиданно один из друзей откидывается на спинку стула и поворачивается ко мне. Губы его шевелятся – он что-то говорит. Но из-за музыки я ничего не могу разобрать. Поэтому наклоняюсь к нему поближе.
– Маки думает передать сегодня этой мэдхен[5] письмецо, – повторяет он чуть громче.
На его голос оборачиваются Маки и еще один наш товарищ, смотрят на нас. Улыбаются серьезно. А затем все возвращаются к прежнему занятию: умолкают. Я один меняюсь в лице. Пытаюсь скрыть это за сигаретным дымом. Однако молчание, до того момента казавшееся приятным, внезапно становится удушающим. Джаз удавкой стягивает шею. Я хватаю стакан. Собираюсь выпить. Но пугаюсь собственного лихорадочного взгляда, отразившегося в стаканном донце. Сидеть тут дольше невозможно.
Я сбегаю на веранду. Царящий там сумрак остужает возбужденные глаза. И я, оставаясь незамеченным, принимаюсь издалека разглядывать девушку, стоящую под вентилятором. Подставляя лицо направленному потоку воздуха, она хмурится, и это неожиданно придает ей что-то возвышенное. Внезапно черты ее лица приходят в волнение. Она оборачивается в мою сторону и улыбается. Несколько секунд я пребываю в уверенности, что она улыбнулась, потому что заметила меня, наблюдающего за ней с веранды. Но очень скоро понимаю, что ошибся. С того места, где она стоит, мою застывшую в полутьме фигуру не разглядеть. Должно быть, ее жестом подозвал кто-то из гостей. Я гадаю: может, Маки? Девушка решительным шагом движется прямо на меня.
Чувствую, как тяжелы мои руки – словно налившиеся плоды. Опускаю их на перила веранды. К ладоням пристает покрывающая перила пыль.
2В тот вечер сердце мое потерпело мгновенное крушение: так переворачивается разогнавшийся до предельной скорости велосипед. Это она задавала темп моему сердцу. А теперь скорость мгновенно упала до нуля. И похоже, собственными силами подняться я уже не способен.
– Тебя к телефону, – сообщает мать, заходя ко мне в комнату.
Я не отзываюсь. Мать недовольно ворчит. Наконец поднимаю голову и гляжу на нее. Изображаю на лице немую просьбу: «Оставь меня, пожалуйста, в покое». Мать смотрит с беспокойством и выходит из комнаты.
Стемнело, но я не собираюсь идти в кафе «Сяноару». Не спешу больше туда, где эта девушка, где мои друзья-приятели. Замер посреди комнаты, не шевелюсь. И прилагаю все усилия к тому, чтобы ничего не делать. Сижу, опершись локтями о стол, – голова покоится в ладонях. Под локтями книга, вечно открытая на одной и той же странице. Там, на этой странице, изображено чудовище. У него такая тяжелая голова, что оно само не способно ее удерживать. И потому она вечно катается по земле вокруг него. Периодически оно разжимает челюсти и сметает языком раскисшую от его дыхания траву. Однажды, не соображая, что творит, оно сожрало собственную ногу… Ничто и никогда не вызывало во мне более светлой грусти, чем это чудище.
И все жеособенно долго – вот так, мучаясь, – человек жить не может. Это мне известно. Но тем не менее я даже не попытался избавиться от боли; а почему? В действительности я, сам того не сознавая, ждал… Ждал чуда: что кто-нибудь из приятелей придет и, удивленный, порадует известием, дескать, предмет ее страсти нежной – не Маки, а ты.
Как-то в предрассветный час мне приснился сон. Привиделось, будто мы вдвоем с Маки спим, растянувшись на спине посреди зеленой лужайки, кажется, где-то в парке Уэно[6]. Я неожиданно открываю глаза. А Маки по-прежнему спит – не добудишься. Я между тем вижу, как на краю лужайки откуда ни возьмись появляется она в компании еще одной официантки: тихо переговариваясь, они неспешно движутся в нашу сторону. Она рассказывает подруге, что на самом деле любит меня и что поначалу не поняла Маки: думала, он передает ей мое письмо, а оказалось – свое собственное. Девушки проходят прямо перед нами, но нас при этом не замечают. Я несказанно счастлив. Украдкой гляжу на Маки. А тот, оказывается, проснулся.
– Крепко же ты спал, – говорю.
– Я? – На лице Маки появляется странное выражение. – Разве это я спал, не ты?
Глаза мои закрыты – я сам не заметил, как веки опустились.
– Ну вот, снова засыпаешь, – доносится до меня голос Маки, и я стремительно погружаюсь в сон…
Потом я проснулся уже по-настоящему – в своей постели. Этот сон представил передо мной в полной красе мою подспудную надежду на чудо. Надежда заново разжигала тлеющую внутри боль и одновременно с тем крепла. Она же, объединившись с подступающим по вечерам невыносимым одиночеством, погнала меня против воли в «Сяноару».
Кафе «Сяноару». Тут все по-прежнему, ничего не меняется. Та же музыка, те же разговоры, те же грязные столы. И я надеюсь, что посреди неизменных декораций обнаружу ее и Маки точно такими, какими они были до сих пор, надеюсь, что я – единственный, в ком произошла перемена. Но меня сразу охватывает недоброе предчувствие. Она избегает глядеть мне в глаза – все остальное проходит мимо моего внимания.
– Эй, что за траурный вид?
– Что случилось?
Я отвечаю, старательно воспроизводя обычные интонации и жесты:
– Болел, ничего серьезного.
Маки внимательно смотрит на меня. А затем говорит:
– К слову, тем вечером тебе, кажется, было на редкость скверно.
– Да.
Я гляжу на Маки настороженно. Не люблю демонстрировать боль окружающим – опасаюсь этого. Однако раненый не успокоится, пока не проведет пальцами по своей ране, и я подчиняюсь тому же инстинкту: мне хочется точно знать, что именно причиняет мне боль. Безуспешно ищу глазами ее лицо, затем снова перевожу взгляд на Маки и спрашиваю:
– А что там с мэдхен?
– Мэдхен?
Маки делает вид, будто не понимает, о чем я. Затем вдруг лицо его кривится – он расплывается в улыбке. Его ухмылка перетекает и на мое лицо. Я чувствую, что теряю из виду собственные ориентиры.
Молчание неожиданно прерывает голос одного из приятелей:
– Маки наконец-то ее сцапал, буквально на днях.
Другой подхватывает:
– Только нынче утром первое рандеву было!
Меня с головой накрывает чувство, которого я никогда раньше не испытывал. Не понимаю, больно мне или нет. Друзья безостановочно шевелят губами. Но с этого момента я уже не могу разобрать ни слова. Замечаю вдруг, что на лице моем все еще гуляет подцепленная у Маки усмешка. Вот уж чего никак от себя не ожидал. Впрочем, я осознаю, насколько в данный момент далек от всего поверхностного – даже от того, что написано на моем собственном лице. Я, словно ныряльщик, замеряю глубину залегания своей погрузившейся на дно боли. Но как раздающийся на поверхности моря плеск волн достигает морских глубин, так и меня в конце концов настигают звуки музыки и стук тарелок.
Я пытаюсь по возможности воспрянуть со дна, призвав на помощь силу алкоголя.
– Хлещет, словно бездонный.
– Тяжко, видать.
– Да у него губы дрожат.
– С чего ему так плохо?
Постепенно приходя в себя, я наконец начинаю улавливать встревоженные взгляды друзей. Но они не понимают, что со мной происходит. Я вполне успешно убеждаю их, будто болен и мне дурно. Оставшихся душевных сил не хватает даже на то, чтобы отыскать в зале ее лицо.
Выйдя из кафе «Сяноару» и простившись с приятелями, я в одиночестве сажусь в такси. Бессильно покачиваясь в салоне, смотрю на широкие плечи водителя. Снаружи внезапно темнеет. Чтобы срезать путь, водитель ведет машину сквозь рощу парка Уэно.
– Послушайте! – Я собираюсь тронуть водителя за плечо. Поскольку его широкая спина неожиданно напоминает мне спину Маки. Но отяжелевшая рука почти не поднимается с колен. Мое сердце сжимается от тоски. Передние фары освещают крошечный фрагмент газона. И этот фрагмент вызывает вдруг в памяти сон, посетивший меня нынче утром. Во сне она настолько приблизила свое лицо к моему, что почти меня касалась. Однако приближалось ее лицо в неловкой попытке меня утешить.
3Разгар лета.
В пронизанном лучами аквариуме золотую рыбку толком не разглядеть, так и с моей сердечной печалью: под палящим солнцем она почти не заметна. К тому же зной притупляет все чувства. Я почти не различаю того, что меня окружает. Пребываю в оцепенении посреди сковородных запахов, сияния свежевыстиранного белья и рокота проносящихся под окном автомобилей.
Но когда опускается вечер, моя печаль становится прекрасно мне видна. В памяти, одно за другим, воскресают разные воспоминания. Доходит черед до парка. И видение это внезапно разрастается – все прочие скрываются за ним. Меня оно ужасно пугает. Пытаясь сбежать от него, я начинаю метаться, будто сумасшедший.
Иду куда-нибудь – не важно куда. Иду просто потому, что не желаю погружаться в себя. Мне хочется скрыться не только от нее или от приятелей, мне нужно сбежать куда-нибудь подальше от себя самого. Я боюсь любых воспоминаний – равно как боюсь совершить какой-нибудь поступок, который породит новые воспоминания. Поэтому стараюсь совсем ничего не делать, только мараю без конца тротуары своей тенью.
В один из вечеров мимо меня, одарив на ходу улыбкой, проплыла молодая женщина, опоясанная желтым оби[7]. Я с приятным волнением последовал за ней. Но, когда женщина завернула в магазин, я даже не подумал дождаться ее и ушел. Очень скоро я о ней забыл. А несколько дней спустя вновь приметил в толпе опоясанную желтым оби молодую даму. Ускорил шаг. Но, когда догнал и глянул на нее, не смог понять, та ли эта женщина, которую я видел на днях, или уже другая. Осознание того, насколько я рассеян, меня не смутило: глубокая задумчивость хорошо гармонирует с минорным настроем.
Время от времени меня затягивает в небольшой бар, обращенный фасадом к прогуливающимся. В зале, сумрачном от табачного дыма, я мараю столик сигаретным пеплом и пятнами спиртного. Так что под конец испачканная столешница начинает напоминать длинную-длинную пешеходную дорожку, которую я целый вечер марал своей тенью. Наваливается невероятная усталость. Выходя из бара, я сразу ныряю в такси, а из такси отправляюсь прямиком в кровать. И камнем проваливаюсь в сон.
Как-то вечером, шагая в толпе, я ненароком задержал взгляд на одном молодом человеке, который двигался мне навстречу. А тот взял и остановился передо мной. Оказалось, это один из моих приятелей. Я рассмеялся и пожал ему руку.
– Вот дела! Ты?
– Что, успел позабыть меня?
– И правда, совсем позабыл.
Я говорил с нарочитым воодушевлением. Хотя не мог не заметить, что моя невнимательность, судя по всему, огорчила приятеля: я был настолько погружен в свои мысли, что даже не признал его.
– Почему не приходил к нам?
– Я вообще ни с кем не виделся. Не хотел.
– Понятно… Так ты и про Маки, наверное, не знаешь?
– Нет, не знаю.
Ничего не добавив, приятель зашагал вперед. Я догадывался: то, что он собирается рассказать про Маки, вне всякого сомнения, снова вывернет мне душу наизнанку. И все-таки, точно собачонка, побрел за ним следом.
– Оказалось, девочка – чистый ангел! – Слово «ангел» он произнес с нескрываемым сарказмом. – Маки постоянно ее куда-нибудь водил – то на бейсбол, то в кино. И поначалу девочка, по его словам, была абсолютно шарман. Но как-то раз он намекнул ей, дескать, не пора ли прилечь вдвоем. И она к нему вмиг переменилась. Стала холодная как ледышка, измучила беднягу чуть не до смерти. Разберись тут, то ли она вообще не понимает, что у мужчин на уме, то ли поиздеваться над нами любит. То ли норовистая, то ли совсем дура… Эй, виски сюда! Ты что будешь?
– Ничего не нужно. – Я покачал головой. Мне показалась, что голова на плечах чужая.
– А потом, – продолжил приятель, – Маки внезапно куда-то пропал. Мы уже начали задумываться, не случилось ли чего, и тут – вчера это было – объявляется. Выяснилось, что он почти неделю пробыл в Кобэ, кружил все эти дни по тамошним барам: говорит, сбивал раздувшийся аппетит – гонял себя, чтобы уже ни рукой ни ногой. И похоже, со всем, что его глодало, разделался. Не ожидал от него такого прагматизма.
Пока приятель рассказывал, я молчал, прислушиваясь к гулу пчелиного роя, постепенно наполнявшему мою голову. Время от времени я поднимал глаза и глядел на приятеля. Мысленно возвращаясь сначала в тот момент, когда смотрел на него, шагающего в толпе, и даже не мог сообразить, что это он – до того был погружен в себя, – а затем еще дальше: мне вспоминались все терзания, погрузившие меня в подобное состояние.





