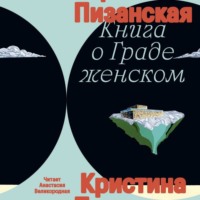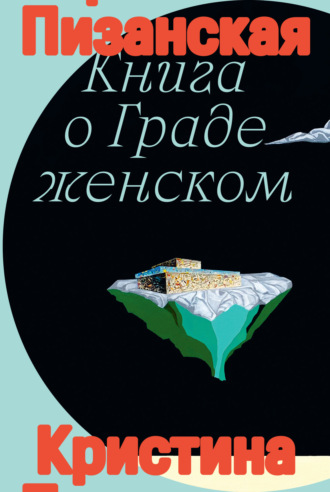
Полная версия
Книга о Граде Женском
Не станем спешить приписывать Кристине литературное или иное чванство или позерство. Правильнее констатировать факты. В первое десятилетие XV века она написала подавляющую часть своих прозаических сочинений. Все эти сочинения неизменно – хоть и в разной степени – связаны с вопросами философии, морали и политики. По мере приобретения новых знаний она все больше ощущает и выражает свою ответственность перед обществом и властью. Она отстаивает не только право поучать своих коронованных и не коронованных читателей, но и свою обязанность это делать. Все это – во время войны, при короле, чье безумие общепризнано. И наконец, все это – во Франции, где власть над умами и душами мирян пока что по большей части принадлежала клиру. А тот, в свою очередь, в условиях затяжной Великой схизмы (1378–1417), вынужден был лавировать между папами, антипапами и соответствующими партиями. По-моему, у нас есть все основания объединить все эти обстоятельства под эгидой важнейшего понятия истории культуры того времени: гуманизм.
Гуманист Кристина вынуждена вести полемику с гуманистами, для которых «Роман о Розе» – мастерское произведение, необходимое для воспитания нравов, духовных скреп общества. Она же, сочетая средства риторики с мотивами, которые мы бы сегодня прописали по части «мудрствования», доказывает, что не всякая великая литература во благо, так как она может обернуться наветом. Ничего принципиально нового здесь не было: Средневековье хорошо помнило начало трактата Цицерона «О нахождении», где, во-первых, крепкий союз мудрости и красноречия называются непременным условием благоденствия государства, во-вторых, красноречие, лишенное мудрости, объявляется для того же государства бедой.
Знали об этом и современники Кристины, не только гуманисты: «Кристина де Пизан говорила так хорошо и честно, сочиняя речи и книги для воспитания благородных женщин и других людей, что мне бы духу не хватило что-либо добавить. Кабы получила я знание Паллады и красноречие Цицерона, а Прометей сделал из меня новую женщину, все равно я не смогла бы так хорошо говорить, как она»[40]. Так выразилась в духовном завещании детям некая француженка тех лет. Именно такое сочетание мудрости и красноречия Кристина сделала своей литературной программой, в нем видела социально ответственный порядок дискурса. Нетрудно догадаться, что само по себе это не оригинально: бесчисленные «поучения», «видения», «сказы» (франц. dits), «сны» воспринимались как дидактика. Наряду с псалмами и часословами по ним учились жить, создавали себе правила, возможно, видя в этом род «благородной игры»[41]. Повсюду мы найдем в литературе того времени морализаторство и поучение – не потому, что писателям страсть как хотелось поучать, а потому, что этого ждала от них читающая публика, в том числе коронованная. Таков, например, «Сон старого путника» Филиппа де Мезьера, энциклопедическое зерцало государя, законченное в 1389 году, когда Карл VI еще не страдал деменцией, и многие возлагали на него большие надежды[42].
Кристина взялась за воспитание власти позже, в совсем иной атмосфере. Для нее слова – не просто средство, чтобы подтолкнуть к каким-то действиям, они сами по себе уже действия. У своего старшего друга Николя Орема она подхватила неологизм mos actisans, то есть буквально «действенные» или «действующие слова», «слова, побуждающие действовать». Высказываясь публично, на письме или устно, Кристина всерьез считала себя служащей обществу и власти[43].
В какой-то степени это литературная поза, следование своеобразному литературному этикету[44]. Нам, читателям XXI века, нужно почувствовать эту этикетность словесности шестисотлетней давности, чтобы понять ее, словесности, вневременные достоинства. Обосновывая свое право на поучение, поэт или прозаик должен был поставить себя в своих текстах в какое-то положение по отношению к событиям его времени. Он мог, как Кристина, слетать на небо и вернуться, мог, как ее современник Роже Шартье, уснуть, проснуться, опять уснуть, мог, как профессор Жерсон, устроить предварительное «заседание парламента» у себя в голове с участием Притворства, Раздора и Рассудительности[45]. Все это одновременно литературные приемы, инсценировки и дань многовековой куртуазной традиции. Эта традиция, настоящая игра зерцал, требовала проявить изрядную изобретательность в подаче идей, если ты хотел их видеть хоть в какой-то мере воплощенными в реальном поведении государей и в реальной политике. Но за всеми этими приемами, на современный взгляд чисто литературными, стояла специфическая этика позднего Средневековья, с ее особым «духом совета». И готовность давать советы, и готовность внимать им считались очень важными ценностями в среде власти. Такая готовность говорила о достоинстве индивида, делала его или ее неотъемлемой частью среды, в том числе двора, который так ценила Кристина[46].
Подобный этикет сегодня резонно будет принят как протокол, план рассадки, не более того. Политикам нужны не поучения и лекции, а конкретные рекомендации для конкретных действий, техзадание, выполненное строго по графику и прейскуранту, разговор начистоту. Но в 1400 году политика говорила на другом языке, и то, что мы видим во многих сочинениях Кристины, и есть тот самый разговор начистоту. Она считает себя обязанной говорить власти правду, потому что она, власть, как бы по определению окружена льстецами. Десять лет творчества, включившие в себя и «Книгу о Граде женском», в 1414 году кристаллизовались в стройную морально-политическую систему воспитания государя, предназначенную дофину Людовику Гиенскому, под говорящим названием: «Книга о мире»[47].
Если бы Кристина была просто опытной наставницей королей, она вошла бы в историю политической мысли – и только. Но подобно тому, как повсюду у нее мы найдем политику, мы найдем и ее саму, пройденный ею путь писательницы. Потеря трех дорогих ее сердцу мужчин – отца, мужа и Карла V – заставила ее, женщину, почувствовать себя мужчиной. Наверняка чтобы восполнить потерю, она с удвоенным усердием взялась за чтение и письмо: «В одиночестве ко мне пришли медленное чтение на латыни и народных языках, прекрасные науки, различные сентенции, отточенное красноречие – все, что при жизни моих покойных друзей – отца и мужа – я получала от них»[48]. Невзгоды, депрессию, потерю близких и растерянность – всю свою слабость Кристина сознательно превратила в предмет повествования, а значит – в силу.
Чтение книг она называет «разжевыванием», ruminacion, традиционное для Средневековья понятие, связанное с практикой медитативного чтения Писания[49]. Но можно встретить и почти хищный глагол happer, «хватать зубами», «сцапать». Примерно как мы, когда повезет, «проглатываем» захватывающий роман. Свой писательский труд тех первых лет самостоятельной жизни она оценивает скромно, но уверенно: «Я, женщина, не побоялась чести сделаться писцом этих приключений Природы», antygrafe de ces aventures[50]. Antygrafe – тот, кто переписывает лежащий перед ним (anty-) текст. Так или иначе, «глотание» книг и построение собственного литературного мира для Кристины – приключение, удовольствие почти физическое, не говоря уже об интеллектуальном и терапевтическом[51].
Именно поэтому в «Граде женском» она встречает нас в своем кабинете, в окружении книг, словно за крепостной стеной – и точно так же, из слов и фраз, она выстраивает город для своих женщин[52]. Больше, чем просто красивый образ. Вторая глава открывается довольно пространной жалобой не только на несправедливость женоненавистничества, но и на божий промысел. Лирическая героиня предпочла бы вообще родиться в мужском теле. За эдакими богоборческими сомнениями должна была бы последовать настоящая теодицея. В двух рукописях, созданных без Кристининого участия, ламентации дополняются ключевой сценой: «Охваченная этими скорбными мыслями, я сидела с опущенной словно от стыда головой, вся в слезах, подперев щеку ладонью, облокотившись на ручку кресла, и вдруг увидела, что мне на колени упал луч света, словно взошло солнце. Я сидела в темноте, и свет не мог сюда проникнуть в этот час, поэтому я вздрогнула, будто проснувшись. Подняв голову, чтобы понять, откуда исходит свет, я увидела стоящих передо мной трех увенчанных коронами дам, очень статных. Сияние их ясных ликов озаряло и меня, и все вокруг». Дочери Бога Разум (Raison – во французском женского рода), Праведность (Droitture) и Правосудие (Justice) являются вместе с этим просвещающим светом. Разум держит в руках зеркало, атрибут самоанализа, Справедливость – линейку, мерило добра и зла, Правосудие – чашу, справедливо отмеряющую каждому по заслугам.
Эта сцена – вроде бы просто беседа. Но в ней есть неожиданные, изящно поданные мотивы материнства: луч падает на колени (французское giron означает еще и «лоно»), автору предстоит «выносить» свое «детище». Есть сознательная отсылка к «Утешению философией», где сидящего в заточении отчаявшегося автора утешает высоченного роста Философия. Есть свойственная Кристине и многим мыслителям того времени страсть все и вся делить на три. Есть даже благочестивая аллюзия на Благовещение (в иконографии Мария тоже читает, когда является Гавриил) и Троицу, нераздельную и неслиянную[53]. На строительство с помощью пера ее вдохновляют, что характерно, женские персонификации, как и Кумская сивилла в «Дороге долгого ученья». Женская троица, словно подражая Троице, объявляет о своем единстве и назначает себе почти божественные функции: зачин – исполнение – окончание (гл. 6). Христианский образ вовсе не омрачен, не профанирован, а наделяется функциями риторики: нахождение – расположение – украшение. В каждой из трех книг одна из персонификаций будет сопровождать автора.
В чем оригинальность построенного Кристиной города? О знаменитых женщинах в целом, конечно, писали до нее, как в древности, в Ветхом Завете, в средневековой агиографии, так и в близкое к ней время. Латинское сочинение «О знаменитых женщинах» (1362) Боккаччо, было только что, в 1401 году, переведено на французский, De cleres femmes. Этот перевод, как и «Декамерон», стал важным для Кристины источником информации (74 совпадения), вдохновения и полемики. Однако Боккаччо для нее не только модель, но и «антимодель», литературный вызов[54]. Он выстроил свой рассказ о сотне женщин древности в хронологическом порядке, похвалил исключительность характера каждой из них, плохих и хороших. «Известность», claritas, для него не равняется «доброй славе» или «добродетели». Дурное он не замалчивает не потому, что хочет очернить женщин, но чтобы научить читательниц и читателей «ненавидеть преступления», ждет, что в души их войдет «священная польза», sacra utilitas. Однако библейских и христианских святых дев и жен он отказался включать в свою книгу, за исключением «Первоматери», то есть Евы, потому что не считает возможным сравнивать их с язычницами, а поскольку о христианках, мол, уже писали благочестивые мужи, он будет говорить лишь о знаменитых язычницах[55]. Лишь две современницы гуманиста удостоились чести встать в этом ряду: Джованна, королева Сицилии и Иерусалима, и флорентийка Андреа Аччайуоли, графиня Отвиль, которой он в последний момент решил посвятить свое сочинение, поскольку был приглашен погостить в южно-итальянских землях ее родни. С остальными он церемониться не стал: среди них так мало «знаменитых», что автор, пусть и готовый к критике, решил «остановиться, а не продолжать»[56].
Кристина не раскритиковала знаменитого земляка, даже величает его «великим поэтом», числит среди нужных ей авторитетов. Но многое она сделала по-своему, как минимум, чтобы утвердить собственное авторское «Я». Боккаччо во введении рассыпается в церемонных комплиментах Андрее Аччайуоли, которой препоручается судьба новорожденного творенья. Эти россыпи риторики в средневековой поэтике – необходимое условие дальнейшей жизни произведения. За ними просто следуют рассказы, в них стиль меняется с орнаментального, рассчитанного на медленное, вдумчивое чтение и декламацию, на легкий, живой нарративный курсив, в котором у Боккаччо было мало соперников. Кристина – внимание! – никому не посвящает свое сочинение, показывая тем самым, что это ее личное дело, личные горести и сомнения. Зато ее введение в суть дела раз в пять длиннее, чем у тосканца, и вовсе не укладывается в обычный для введений набор общих мест[57]. Она, автор, Кристина, нуждается в разрешении собственных сомнений, чтобы взяться за строительство. Ей нужны Разум, Праведность, Правосудие. Только разрешив сомнения – свои и читателей, – она приступает к рассказу, начинает развлекать читателя.
С каким жанром мы имеем дело? Границы жанров в относительно молодых литературах на новых языках в то время были такими же нечеткими, как в литературе латинской, с ее многовековой историей. Более того, любое произведение, претендовавшее на успех, должно было максимально оригинально сочетать выразительные средства и задачи разных направлений словесности. Достаточно вспомнить хорошо знакомую Кристине дантовскую «Комедию»[58]. Кристина в «Граде женском» – историк, морализатор, рассказчик. Она размышляет вслух, учится сама, поучает других, переубеждает. Она развлекает, расследует, выстраивает исторические параллели, смешивая реальную (с точки зрения 1400 года) историю с тем, что и тогда точно считалось мифологией – а значит, она мифограф, каких хватало на протяжении всего Средневековья[59]. Эту традицию перетолковывания мифов, называемую эвгемеризмом, оно унаследовало от Античности. Полемический запал, обида за весь свой пол иногда доводит ее до слез, до резких выражений, внутренних противоречий. Кляня мужское клеветничество, самолюбие, критикуя властность мужей, она не отрицает ни радости, ни законности брака, а доброго мужа вообще считает величайшим даром небес. Каталогизируя, классифицируя и акцентируя женские добродетели и добродетели общечеловеческие, в женщинах проявленные, она не лакирует действительность, не объявляет всех женщин «добрыми», чтобы самой не прослыть лжецом.
Учитывая, что все названное здесь одинаково важно в содержании «Града женского», что все это – сознательно поставленные автором перед собой литературные и культурные задачи, причислить эту книгу к какому-то одному жанру не представляется возможным. Как знатная дама, Кристина могла писать наставления, стихи, «жалобы», «утешения». Здесь – нечто принципиально большее, уже потому, что Cité des dames звучало почти как Cité de Dieu, «Град Божий». И может быть, для Кристины, это не просто созвучие, но одно из объяснений, почему в ее «Граде» – одни праведницы.
Важно также констатировать, что она пишет сама, без контроля мужчины, причем вступает в спор с мужчинами. Неслучайно в полемике вокруг «Романа о Розе» Гонтье Коль вовсе усомнился в самостоятельности дерзкого женского пера и заподозрил, что какой-то мужчина решил прикрыться именем Кристины словно «плащом от дождя»[60], – распространенный мизогинный образ женской неверности, известный нам по брейгелевским «Фламандским пословицам». Для интеллектуала, клирика, мужчины, во всей этой истории нужно найти подлинное активное начало – мужчину. Такой взгляд, который нам покажется попросту глупым, оставался устойчивым до Нового времени. Еще Сент-Бёв в XIX веке по поводу Маргариты Наваррской писал: «Ищите мужчину». Кроме того, в позднесредневековой физиологии и физиогномике самая горячая женщина считалась холоднее самого холодного мужчины, не говоря уже о том, что женское начало вообще «пассивно», а мужское – «активно»[61]. Какое уж тут писательство? Именно для утверждения своего женского, независимого от мужского контроля, права на писательство, Кристина сознательно отошла от жанров, дозволенных литературой женщинам, сознательно смешала традиционные жанры, понимая, что критики все равно не избежать.
Часто скрытая или открытая полемика с предшественниками и современниками многое объясняли в поэтике того или иного амбициозного литературного труда Средневековья. Современные комментаторы «Града женского», словно поддаваясь обаянию слова и литературной позиции Кристины, склонны утрировать ее разрыв с Боккаччо, а за амбивалентностью тосканца вычитывают настоящее женоненавистничество[62]. Думаю, они сильно преувеличивают как его женоненавистничество, так и феминизм Кристины. Если он берется за распутницу Леэну, морализаторское объяснение с читателем занимает столько же места, сколько сама история. Так иногда бывает у Кристины. Агриппине, матери Нерона, никакого морализаторства не потребовалось, просто разоблачаются все ее непотребства, включая предосудительную связь с сыном, таким же «чудовищем»[63]. Значит ли это, что Боккаччо расставил негативные акценты, следуя некой амбивалентности мужского взгляда на женщину? Кристина, неправедных в город просто не пускает, либо переворачивает негативную историю с ног на голову. Значит ли это, что она все видит в розовом свете, фальсифицирует историю вкупе с мифологией, чтобы «уесть» противника? Или нам назвать это литературной гиперболизацией? Осень Средневековья любила превосходные степени.
Кристина выстроила в ряд правительниц древности и новейшего времени, от франкской королевы Фредегонды, обеспечившей власть сыну, до своих современниц, в особенности, вдовствующих. Некоторых из них она могла найти в доступных ей «Больших французских хрониках»[64]. Знает она и «Морализованного Овидия» и «Историческое зерцало» Винсента из Бове в переводе Жана де Винье. Причем похоже, что, владея в какой-то степени латынью и, конечно, итальянским, она все же работала с переводами на французский. Какие героини допущены в город? Ответ прост: «для тех, в ком не найдется добродетели, стены нашего города будут закрыты». Это – лишь на первый взгляд трюизм. За ним стоит желание проследить непрерывную традицию добродетели в истории человечества, проявленной именно в женщинах. Именно добродетели, а не вечного противостояния пороков и добродетелей. И такой взгляд гуманиста Кристины отличен от взгляда гуманиста Боккаччо, которому фактически все равно, знаменита ли его героиня добром или злом. Разница, думаю, очевидна и нашим читателям. Тем не менее, Кристина немного лукавит: Медею и Цирцею, колдуний, оказавшихся у нее в череде мудрых дам уже в первом эшелоне, никто в Средние века не держал за образчики морали. Гречанку Леонтию Кристина вслед за Боккаччо выводит соперницей Теофраста в философии, но умалчивает о том, что та, согласно тосканцу, была еще и гетерой[65].
Тему «отважных женщин», по аналогии с «отважными мужами», к тому времени уже ввел во французскую литературу прокурор Парижского парламента Жан Лефевр де Рессон. Между 1373 и 1387 гг. он написал в защиту женщин «Книгу Радости», Livre de Leesce, в противовес критикующим женщин «Жалобам Матеолуса» (около 1380), которые сам же перевел и которые мы встречаем в зачине «Книги о Граде женском»[66]. Разум, выступив с речью, перечисляет всех женщин, отличившихся мужеством, prouesce, и в этом длинном пассаже резонно видеть зачатки развернутой Кристиной структуры. Но мужество не равно искусству править, столь важному для концепции нашей писательницы[67]. Глагол gouverner встречается у нее постоянно, как в значении правления, так и в значении самообладания. Амазонок все знали, но числили среди воительниц, вполне исторических в средневековом воображении, а Кристине важно их государство, policie, даже если оно, как все империи древности, кануло в лету. А это значит, что ее «Град женский» – аллегорическое описание идеального государства, то есть – политическое зерцало.
«Книга о Граде женском» написана, чтобы защитить женщин прошлого и настоящего от всех форм женоненавистнической клеветы. В этом ее отличие от книги Боккаччо как в латинском оригинале, так и во французском переводе. Поэтому ей потребовалось не просто переписать историю, но и настроить на нужный лад язык, найти новые стилистические приемы. Одним из лингвистических приемов тогда, как и сегодня, служил поиск феминитивов. Отчасти они навязывались самой ситуацией авторства, когда любой разговор от первого лица, в случае Кристины, переводился в женский род. Но феминитивы не невинны, а наполнены смыслом, они становились и становятся предметом пререканий и даже запретов. Представим себе слово clergesse, т. е. формально «клирик» в женском роде, по аналогии с «аббатиссой», появившейся в XII веке. В историческом же аспекте это – обоснование права женщины на участие в культурной жизни, что-то вроде нашего разговорного слова «интеллектуалка», но без снижающих коннотаций. Неслучайно, слово clericus связывали тогда с глаголом legere, «читать», «преподавать».
Анонимный переводчик Боккаччо пишет о cleres femmes, «славных женщинах», Кристина – о «дамах». Она вложила благородство в семантику слова, не нуждающегося в дополнениях, и указывает тем самым, что все ее героини благородны самим фактом своей принадлежности к женскому полу, не по происхождению, но по добродетели. Разницу прекрасно чувствовал читатель XV века. Боккаччо и переводчик часто использовали просторечное «женщина» не только для уравнивания всех своих героинь, даже цариц, но и для высмеивания «изнеженных» (ср. итал. effeminato, франц. efféminé) мужчин, когда те, по их мнению, уступают в отваге какой-нибудь Пентесилее. Кристина не могла не чувствовать негативность таких оценок на уровне лексики.
Парадоксальным образом феминитивов больше в «Славных женщинах», чем у Кристины. Зато она оригинальна в применении гендерно нейтральных слов там, где ее современник либо ждал форму женского рода, либо слово применял исключительно к мужчине: poete, prophete, philosophe. Даже слово homme, уже в Средние века наполненное амбивалентностью мужчина/человек, Кристина повернула в свою пользу, например, рассуждая о грехах мужчин. Зато, когда ей нужно указать на оба пола, она говорит о «людях», «созданиях» и «личностях»: gens, creature, personne. Этот прием отличает ее от «Славных женщин»: например, creature во французском Боккаччо встречается дважды, у Кристины – восемнадцать раз[68]. Речь, повторю, не о неологизмах и не об игре словами. Это лексические предпочтения, за которыми стоят идеологические и литературные задачи. Как ни странным нам может показаться сегодня, в 1400 году иного читателя еще нужно было убедить, что женщина в той же мере человек, что и мужчина. В символическом мышлении позднего Средневековья легко укладывалась, например, такая мысль Фомы Аквинского: женщина не может повелевать мужчиной, ведь она рождена не из головы Адама, но не должна и подчиняться ему, поскольку рождена не из стопы. А Кристина продолжает ту же мысль в нужном ей ключе: женщина должна стоять рядом с мужчиной, «как подруга, а не как рабыня у его ног»[69].
Кристина населила свой литературный город женщинами, по определению, образцовыми. Что она и ее современники вкладывали в понятие образцовости, и как нам к нему относиться? Исторических и мифических персонажей для выполнения такой функции принято было «причесывать», придавать им нужные характеристики, понятные современникам. Отсюда – термины, звучащие на наш просвещенный слух анахронизмами, вечная проблема переводчика средневековой литературы. Но есть и другие формы перелицовки. Те же амазонки, например, лишаются всего чрезмерного – силы, жестокости, сексуальной свободы[70]. Это нормально. Однако Кристину не устраивала моральная неопределенность женщин Боккаччо, тоже «причесанных»[71]. Ее город ждет прихода «королевы», «благороднейшей из всех женщин», окруженной «благородными принцессами», которым предстоит жить в «самых высоких домах», и «неприступных донжонах». «Каких же жительниц призовем мы? Будут ли то женщины распутные, о которых идет плохая молва? Нет, конечно! Это будут только достойнейшие женщины великой красоты, почтенные, поскольку нет достойного украшения для города, чем добропорядочные женщины». Так заканчивается стройка: город ждет ни много ни мало Богоматерь со святыми девами, которых должна будет ввести в него Правосудие, Justice, последняя из трех вдохновительниц Кристины.
Итак, Кристинины «дамы» должны послужить примерами для подражания, не примером в целом, а именно примерами, на все случаи жизни. Для этого она наделяет особой ролью себя саму. В «Граде женском» она и рассказчица, и слушательница, и читательница. Она посредница между тремя дамами-вдохновительницами, насельницами ее города и будущими читательницами. Последним без обиняков предлагается ассоциировать себя с ней, присутствующей на сцене, но вовсе не всегда рассказчицей: ведь она, отказываясь от прямой речи, принимает ту роль, которая по определению принадлежит не автору, а читателю или слушателю[72]. Играя сразу несколько ролей, Кристина оказывается в какой-то мере и последовательницей трех дам, и свидетельницей, удостоверяющей истинность истории, и судьей. Но она не растворяется в этих «ролях» и периодически напоминает о себе без обиняков: Je, Christine, «Я, Кристина». Данте решился не то что произнести, а услышать свое имя в «Комедии» лишь однажды, когда его окликнула Беатриче. Понятие «авторского Я», обсуждаемое в литературоведении на протяжении нескольких поколений, имеет к Кристине непосредственное отношение.