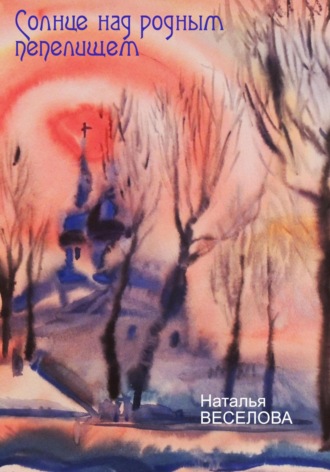
Полная версия
Солнце над родным пепелищем

Наталья Веселова
Солнце над родным пепелищем
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С.Пушкин
Автор просит читателей учесть, что перед ним – художественное произведение, а не скрупулезное исследование генеалогического древа, и поэтому вполне возможны случайные (и неслучайные) совпадения (и несовпадения) имен собственных, а также дат, событий и характеров.
Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ, О ТОМ, ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА НЕ ПОХОЖА НА ПРОЧИЕ МОИ КНИГИ
Ну, во-первых, потому, что ни одну книгу в своей жизни я еще не начинала в семь часов одиннадцать минут утра, при этом в постель еще не ложившись. Заканчивала в это время – да, бывало, а вот начать… Видите ли, я сова настолько хрестоматийная, что для меня сейчас, строго говоря, поздний вечер, пора готовиться ко сну. В комнате моей ночь не прекращается никогда: я живу за непроницаемо глухими гардинами, и если бы моя воля торжествовала всегда и во всем, то я бы никогда их не раздвигала, потому что мне вполне хватает света двух ламп – одной настольной, другой настенной.
Во-вторых, сегодняшний (по-вашему, вчерашний) день я провела совершенно впустую, что для меня, надеюсь, нехарактерно – и поэтому мне мучительно стыдно за минувшие сутки. Рассказать, как я его провела? Проснулась, как обычно, в два часа дня… Прочитав это, многие мои читатели немедленно перестанут называться таковыми по причине вполне извинительного презрения к моей особе, позволяющей себе валяться в постели до того часа, когда у всех порядочных граждан кончается обеденный перерыв – у кого он есть, конечно. Но причина эта чисто внешняя, а скрывается за ней один из смертных грехов, и именно тот, который лучше всего умеет маскироваться под «благородство и всякую такую вещь». Это господа, зависть. Потому что никто не хочет вставать в семь утра, а все хотят спать сладко и долго и при этом еще не казниться чувством вины перед всем человечеством. Но мне это безразлично, и перед человечеством я ни в чем не виновата. Итак, я встала и, совершив ежедневный гигиенически-макияжный ритуал, сильно осложненный отсутствием горячей воды по случаю летнего сезона, поехала в магазин покупать сыну кроссовки. Искомых, естественно, не оказалось, зато прямо на улице с лотка я купила два бюстгальтера – черный и белый – а потом, презирая самое себя, еще чуть не четверть часа нудно выбирала в галантерее заколки для волос – себе же. Рядом случился и продуктовый универсам, и в результате у вечности было мною похищено минут сорок… К пяти часам я приехала домой, приятно порадовавшись там тому факту что мобильник у меня не украли из кармана, а я забыла его у себя на кровати; переодеваясь, обнаружила на нем четыре пропущенных звонка, на которые отвечать мне не хотелось, и принялась готовить себе завтрак. По случаю Петровского поста он состоял из пяти крабовых палочек, банки морской капусты и кружки кофе с лимоном. За завтраком я (тоже редчайший и вопиющий случай) уперлась в дамскую сентиментальную газету – и позорно застряла в ней часа на два, а потом по телефону позвонила подруга – и еще один час бездарно погиб из моей, уже на худшую половину перевалившей жизни. Следующие несколько часов ушли на нудное дело из разряда тех, которые надо же когда-то сделать. А именно – я собирала три рассыпавшиеся нитки бус, пристраивала им новые замки, меняла леску. Бусы были жемчужные, агатовые и нефритовые, работа кропотливая, потребовавшая сосредоточенности с последующим отдыхом. Но отдохнуть мне не пришлось, потому что начался полуфинал чемпионата Европы по футболу, в которой неожиданно угодили многострадальные «наши». Мне пришлось ответить на ряд ура-патриотических эсэмэсок и звонков, причем сплошь от женщин – совсем они все, что ли, с ума посходили? Вставать из кресла, где я пристроилась со своими бусами, я тоже сочла непатриотичным и даже украдкой скосила глаза на икону Николы-Угодника и почти что про себя помолилась: «Ты уж меня прости, угодничек Божий, я к Самому Господу с такими глупостями обращаться не посмею, а к тебе можно. Так мы с тобой Его не потревожим, потому как тебе дано исключительное право одному из всех святых решать всякое дело на месте, не прибегая к молитве. Тебе, конечно, и испанцы сейчас молятся, но ведь русских нас ты больше любишь, верно? Что тебе какие-то испанцы, на Руси тебя всегда больше всех почитали. Так может, можно как-нибудь сделать, чтоб наши выиграли? Не для футбола, конечно, дурацкого, а для России, для умножения ее славы? Что, совсем нельзя? Никак? А может, все-таки? Точно? Ну, ладно, что поделаешь…».
Икона эта Николая угодника не простая, а древняя, позапрошлого века, семейная, топором во время гонений рубленая и мною однажды не слишком удачно реставрированная. Рубил ее «главный хирург Балтики» в годы гонений на церковь, когда… Впрочем, об этом речь впереди, пока только замечу с облегчением, что он не прямой мой предок, а то нести бы за такое до… уж не знаю, до какого и колена.
Очередную повесть я задумала еще осенью, и, как водится, вынашивала, скупо делая заметки в органайзере. И писала бы я спокойненько ее, а не эти пока еще ни на что не похожие заметки, если бы не старинная фотографическая рамка, невесть как по весне попавшая в наш дом. Хорошая резная столетняя рамка, властно потребовавшая для обрамления фотографию-ровесницу. Я взяла альбом с уцелевшими фотографиями давно усопших предков, разыскивая подходящую по размеру и должным образом сохранившуюся, – и действительно нашла потребное. По ходу дела проглядела и остальные – и в который раз опечалилась.
Моя эта нервная печаль и будет «в-третьих» – а именно мое, особенное, болезненное отношение к старым фотографиям. Я их не просто люблю. Я их – переживаю. Причем наибольшее мое внимание привлекают те из них, где запечатлены люди, жившие давно, задолго до меня – люди, которых я никогда живыми не видела, о которых знаю преступно мало или вообще ничего.
Вот страшноватый для посвященного в некоторые тайны пример. Фотография Карла Буллы – Невский проспект начала прошлого века – сверху, из окна его студии. Привычный Гостиный Двор с серым (но закономерно вижу розовым) маяком Думы, неожиданные рельсы, конка о двух лошадях и – толпа. Если не с детства, то с отрочества точно – мой ужас: не больше комарика размером – господин в котелке, глазеющий на афишную тумбу; девушка, явно горничная, подобрав юбки, стремглав перебегает дрогу; мальчишка в лихом картузе мечется у конки с кипой газет; нянька с щекастым питомцем на руках простодушно изумлена представительностью важного, но доброго городового, вовсе ее не замечающего… И каждый из этих людей – неповторимый и исключительный слепок с Образа Божия. У каждого была и прошла своя единственная судьба, в которой он так мучался, желал, творил, любил, радовался – да мало ли, что еще делал! – и вот спустя более века я, чужая (а вдруг нет?) сорокалетняя женщина вижу лишь некое насекомое на черно-белом снимке, знаю, что стоит за ним целый мир – и хоть лопни, но тайны этой мне не выведать, не выспросить – никогда, ниоткуда… А так хочется. И ведь все они где-то и сейчас находятся, потому что в бессмертие души в наше время не верить может только сумасшедший. И каждому в мире уготовано было свое особое, никому другому не подходящее место, и они его заняли, забыв незначительный день, когда Булла сфотографировал их с высоты пятого этажа, о чем они до смерти не узнали… А такой ли незначительный день? Может, господин вовсе не глазеет на афиши, а выслеживает эсера-бомбиста, потому что служит в Третьем отделении – и сегодня он вражину поймает и получит за то орден? А если девушка завтра выходит замуж за дворецкого и навсегда запомнит день, когда бежала стремглав по Невскому накануне свадьбы в Гостиный двор за чем-то последним необходимым? Вдруг няньку сегодня же сгонят с места за воровство, нерадивость и легкомысленное поведение – и уж как она с хозяйкой-писарихой напоследок полается – правнукам в пятидесятых еще рассказывать будет? А городовой – ну, как он в тот же день самого Государя увидит, да так близко, что прямо аж глаза в глаза друг-другу глянут! Но мне-то никогда не узнать, и оттого больно…
Фотографии у меня дома – несколько иного рода: про этих людей я слышу с детства – слышу, запоминаю и фантазирую, так что теперь уж и сама не всегда могу отличить, что знаю твердо, а что родилось как-то само и незаметно выросло, приклеилось и стало неотъемлемой частью Легенды, богатой наследницей которой я являюсь и которую обязана сохранить. Чтобы и с ними не случилось так, как с теми, из альбома Карлы немецкого… Потому что каждый человек, по Образу и подобию сотворенный, имеет на это право – не остаться мушиным следом на невнятной фотографии, а расцвести на белой странице, глянуть живым глазом из своего Неведомого – не умереть на земле окончательно.
Мне с юности говорили: «Записывай, раз умеешь» – но я уверенно положилась на девичью свою память, и теперь, когда записывать почти не за кем, а память из девичьей превратилась в твердую и зрелую – должна успеть. Пока не случилось чего с той же памятью: Бог дал – Бог взял, ничего невозможного. Чтоб до второго звонка уложиться – вдруг между вторым и третьим ни до чего станет?! Потому что первый уже был…
(Матч закончился настолько печально, что вовсе не хочется увековечивать стыдный счет, и так это меня отчего-то расстроило, что почти до семи часов утра я тоскливо занималась ничем: разгружала посудомоечную машину, давно тоскливо пропищавшую, посмотрела пол взрослого и пол детского ностальгического фильма и, наконец, поняла, что могу на целые страшные сутки утратить уважение к себе самой, если немедленно не раскрою ноутбук: этот день следовало оправдать.)
Итак, в-четвертых. Звонок прозвенел в семь часов октябрьского утра, через неделю после моего тридцать девятого дня рождения. Я бежала в этой глухой ночи по делу теперь неинтересному, оттого и не упоминаемому, и, спускаясь по лестнице в нашем неглубоком метро, вдруг почувствовала страшную боль в левой ноге, выше лодыжки – вроде как «ногу свело», только что-то не в меру болезненно. Дело свое я так никогда и не закончила, потому что уже через час «скорая помощь» привезла меня в хирургическое отделение одной из печально памятных мне по прошлому больниц. Меня весьма доброжелательно осмотрела приятная женщина-хирург и, обнадеживающе улыбаясь, покинула в смотровой, уйдя, как я думала, за каким-то бланком. Боль к тому времени как-то устаканилась или, может быть, это я начала с нею потихоньку сживаться – а только мне показалось, что она слабеет. Я вынула телефон и стала храбро сообщать мужу, что оставаться здесь не вижу никакого смысла, сейчас вызову такси и поеду домой. И вот именно когда я, говоря все это, уже нащупывала под лежанкой туфлю, намереваясь немедленно исполнить задуманное, передо мной вновь возникла милая хирургиня, бестрепетно совавшая мне под нос длинную, мелким шрифтом напечатанную бумагу – с безапелляционным: «Подписывайте скорей, каталка уже здесь». Я воззрилась на бумагу с полным непониманием происходящего, и мелькнула даже нелепая надежда на то, что меня среди обилия больных и увечных с кем-нибудь перепутали. Но мне тут же пояснили – устало и очень вразумительно (позже я узнала, что доктор додежуривала в тот момент хлопотливые сутки и оттого была уже несентиментальна): «У вас подколенная тромбоэмболия – тромб откуда-то оторвался и застрял в артерии. Это очень серьезно, и ваша жизнь в опасности. Вас нужно интенсивно лечить, будем пытаться избежать ампутации, но… Тромб – этот или другой – може ведь застрять и где-то еще…». Больше ни о чем не спросив, – не потому что вопросов не осталось, а из-за того, что потеряла дар речи – я подписала невозможную бумагу, в которой ответственность за все, что может со мной приключиться в стенах больницы, без лишних церемоний возлагалась на меня же. Вскоре я оказалась в палате, где, прямо напротив, похожая на смерть, но от смерти после перитонита успешно отмахавшаяся женщина лежала сразу под двумя капельницами, другая тихо, но злобно угасала у окна, а третья выписывалась именно с той койки, на которую меня поместили.
Как передать чувства или поток мыслей человека, два часа назад практически здорового, не получившего никакой травмы, но по непонятной причине взятого кем-то, как котенок за шкварник, и брошенного в скорбное место с отвратительным знанием в голове: вот эту вот абсолютно на вид нетронутую ногу, возможно, уже завтра за здорово живешь отрежут, да и то еще лишь в том случае, если до завтра я доживу, а не помру ночью оттого, что тромб застрянет в сердце или в мозгу – как умер тот тридцатипятилетний монах в Псково-Печорской лавре, о котором всего месяц назад рассказал нам там его товарищ и сомолитвенник веселый инок Варух…
…Подождите-подождите, сегодня пятница, а в воскресенье ведь у меня презентация рассказа… Да какая там презентация, Господи… Воскресенье… На третий день как раз похоронят… Нет, не успеют, возни много, да и труп раньше вторника не выдадут, в понедельник вскрытие будут делать… Ромку жалко, как он теперь… Я в двадцать семь лет без отца осталась, с одной матерью, и то несладко пришлось, а он в девятнадцать, и без обоих родителей… Поможет ли кто? А моя мать? Это ж каково ей будет – единственного ребенка хоронить? Впрочем, она после такого долго не проживет, скоро отмучается, и Ромка, опять же, останется уж совсем один, как перст… Что это я на Господа не уповаю, Он-то ведь знает, наверное, как лучше – и сироток любит… Позаботится… А я-то куда, а?! «Далече от спасения моего словеса грехопадений моих…». Не зря, значит, в День рождения этот у меня в Псалтири была семнадцатая заупокойная кафизма… Сама по себе, выходит, отчитала… А когда же я на исповеди-то была в последний раз, причащалась когда… Поздравляю: три недели назад, и то на общей… Значит, надо священника, причем прямо сейчас, потому что уже завтра может не быть… Совсем не быть… У меня…
Как я его по телефону искала – отдельная история. И как никто не хотел мне его приглашать, а говорили: «Не может быть у тебя такого диагноза, потому что он слишком страшный. Расслабься, не надо тебе никакого священника», – убийственная, согласитесь, логика. Как я кричала в трубку всем подряд, стараясь сдерживать пугающие истерические нотки: «Да не боюсь я смерти, пойми – я боюсь умереть без покаяния!» – и как ни один не понял. И как соседка, сочувственно наблюдавшая и слушавшая, вдруг сказала: «Я сейчас выписываюсь, а там внизу есть больничная церковь. Я обязательно зайду и скажу, что вы хотите исповедоваться, – и, в ответ на мой отчаянно-недоверчивый взгляд: – Не сомневайтесь, не волнуйтесь. Я даю вам слово, что сделаю это». У каждого из нас на земле есть свой местный спаситель. И не один. Но лица ее я не помню.
А дальше все вершилось гладко и волшебно, как и подобает вершиться делам славным. Вскоре у моей постели оказалась огромная девушка в форме сестры милосердия (попрошу не путать с зелеными штанами и рубахой медсестры), а именно – копией той, что носили доблестные сестрицы на Первой мировой – и милосердие было мне немедленно оказано: по мобильному вызван батюшка, впоследствии оказавшийся супругом моего зубного врача – ох, и дивны же дела твои, Господи! И через полчаса я оказалась в рядах немногочисленной рати: тех, кто, чуя близкую смерть, успел исповедоваться, причаститься – и выжил. До сих пор терзаюсь я загадкой собственной души: а «взаправду» ли я исповедовалась? Не знала ли где-то в глубине, что это еще не та, не последняя исповедь? Но, так или иначе, прямо перед моим ложем, окруженным капельницами, была проведена подобающая служба – даже с пением, чему я отвлеченно порадовалась, а мои сестры по несчастью изумлено наблюдали действо, которое сочли нарочитым представлением, против чего, впрочем, не возражали, потому что какое-никакое – а все ж развлечение. Из слов священника навеки врезалась в память одна фраза: «Придется, куда денетесь», – в ответ на мое смятенное о том, что не могу смириться с тем, что утром была здорова, а вечером, вероятно, умру. Просто и по-деловому, мне понравилось… А потом он бережно достал с груди Дароносицу (мне впервые пришлось разглядеть ее вблизи), причастил меня и, решительно отказавшись от денег, ушел, а я – выздоровела. Сразу. Во всяком случае, консультант, вызванный для меня из городского специализированного центра и прибывший еще через полчаса, даже больных не постеснявшись, обругал своих коллег, диагноз их подтвердить нипочем не согласился и тотчас уехал, брезгливо бросив им на ходу: «Где тут у вас выход?». Возмущенным курятником дамы-хирурги кинулись за ним, уверяя, что еще час назад никакого пульса в ноге не было, и они тоже не первый день здесь работают. Под шумок я пощупала то место, которое полчаса назад было белым и как бы деревянным: под кожей жарко пульсировала ожившая артерия…
Тогда-то я и решила, что пора взять эти самые фотографии и написать, что помню, пока не поздно. И еще о другом написать – о том времени, которое застала, в котором жила, где было у меня вполне счастливое детство и первые любови со стихами. О той стране, исчезнувшей с карты мира, для которой я совершала первые маленькие подвиги и родила ребенка. Сейчас если пишут о ней, то, как о тюрьме, нет, даже о голодном и холодном карцере, где всегда темно. Даже сын мой, будучи еще подростком, произнес как-то знаменательную фразу: «Кажется, что у вас вся жизнь была черно-белая, без цветных красок». Да, только в ней он родился почти двадцать один год назад – и был вполне розовый, а коляска его – голубая. Я с парадоксальной благодарностью хочу вспомнить то время, хотя росла в семье ярого антисоветчика – отца и тихого – матери, да еще и сама в юности считала своим долгом писать разоблачительные стихи, читать подпольную литературу, слушать «голоса» и, к тому же, умудрялась соответствующе настраивать всех своих знакомых. А вот выросла – и нет ненависти. И вовсе не оттого, что не верю теперь и в демократию, оказавшуюся не то что хуже, а – гаже. Просто не хочу, чтобы у меня и у моих сверстников, едва успевших стать официально взрослыми к моменту очередного и окончательного крушения империи, были отняты детство и юность. Их теперь попросту вульгарно перечеркнули: дескать, что там у вас могло быть хорошего – это за железным-то занавесом, при пустых магазинах и пионерских галстуках? Давайте, мол, лучше забудем! Я не согласна. Я не хочу забывать время, когда вы могли сказать постороннему человеку чуть ли не на улице: «Слушай, старик, у меня тут такое дело, помоги, а?» – и человек этот считал своим долгом бросить собственные дела и заняться вашими, причем вопрос о том, чтобы ему за это заплатить, даже не стоял; время, когда можно было запросто пообедать в гостях, ни на секунду не задавшись вопросом, а не объедаешь ли ты хозяев; время, когда детскую коляску, с ребенком или без, можно было спокойно оставить у магазина… Такое уже никогда не повторится, поэтому я и хочу просто – запомнить. И записать, если Господь сподобит…
Об одной могиле на Комендантском кладбище
в Петропавловской крепости и о моей несостоявшейся фамилии
Нашим родоначальником по мужской линии (имеется в виду только обозримое прошлое, иначе пришлось бы говорить об Адаме) считается Георг Йоганн Майдель. У меня было много шансов получить эту фамилию в качестве девичьей, но вмешались два досадных «если бы» – и моя веселая фамилия досталась мне от случайного деда, о котором я не знаю ровно ничего. Но вернемся к доблестному рыцарю. Ему не посчастливилось: он оказался у своих родителей вторым сыном, а в Швеции в то время действовал вопиюще несправедливый закон майората. Другими словами, титул и имущество наследовал только самый старший сын – а все прочие дети полностью зависели в материальном смысле от его произвола. Захочет брат поделиться с младшими малой долей благ – и получат они пропитание и крышу над головой. Не захочет – извините, устраивайтесь, как знаете, а со двора вон. У нашего Майделя оказался как раз такой братишка, и пришлось юному Георгу заняться своей судьбой самостоятельно. Швед был, наверное, сообразительный и не стал мыкаться по своей худосочной родине, а рассудил здраво, что чем больше страна, тем больше возможностей, а, следовательно, путь его лежит на юг (!), в Россию.
Жизненный путь Георга в России был, по всей вероятности, славен, потому что он сподобился вписать свое имя в историю – золотом по черному. Известно, что, перейдя в Православие, зваться он стал попросту – Егор Иванович, пошел по военной линии, женился на русской женщине, чье имя благодарная память потомков не сохранила, отличился и был сильно ранен во вторую Крымскую кампанию, но в отставку не вышел, а в чине генерала от инфантерии был назначен комендантом Петропавловской крепости в Петербурге – и там до самой смерти прослужил своему приемному Отечеству. Похоронили Егора Ивановича, где положено, – на Комендантском кладбище, в самом сердце Петербурга, и до тех пор, пока город не уйдет под воду во исполнение известного пророчества, каждый, посетивший крепость, может на самом высоком кресте черного мрамора прочитать золотые буквы: «Генерал от инфантерии Майдель Егор Иванович».
Остались двое сирот (жена Майделя скончалась, вероятно, много раньше, и с родственниками у нее было негусто), и встал неизбежный вопрос об их жизненном устройстве. Пригрел Колю и Наташу вышедший в отставку боевой товарищ Егора Ивановича Василий Зуев. Здесь вступило в силу первое и главное «если бы»: Зуев не просто стал опекуном детишек, но, не имея своих, усыновил их и переписал на свою фамилию. Смутная легенда бормочет, что Василий был спасен от верной смерти в Крыму Егором, который при этом и получил то тяжелое ранение, что позже свело его в могилу в самом мужском расцвете, лет около пятидесяти. Не чая выжить, он, будто бы, попросил Василия не оставить детей, и тот обещал. Егор прожил после Крымской еще несколько лет, но друг слова своего не забыл и в нужное время исправно выполнил. Почему фамилию детям поменял – Бог весть: может, не хотел, чтобы звались они «по-немчинному», а может, от великой любви пожелал, чтобы сын и дочка, ставшие ему родными, и фамилией не отличались от остальной семьи.
Сразу покончу с Наташей Зуевой: ее судьба для меня как-то невнятна (хотя для нее самой, возможно, была яркой и поэтичной). Знаю только, что, окончив какой-то из институтов благородных девиц, она встретилась с известным певцом Собиновым и вскоре стала его гражданской женой. Почему гражданской – не знаю, возможно, из-за вполне похвальных сложностей с разводами на территории Российской Империи. Она, как будто, эмигрировала после октябрьского переворота – и следы ее перемешались с миллионами других следов русских женских ножек, принявшихся топтать крутые бока матушки-Земли от Константинополя до Австралии. По другой версии – осталась в России, где, надолго пережив убитого возлюбленного, скончалась в Москве – в нищете и забвении…
Коля Зуев стал инженером. В качестве хобби заинтересовался музыкой (у брата и сестры это, видно, была родственная черта) и принялся, как и подобает образованному молодому человеку, активно посещать различные музыкальные собрания. Как-то занесло его прямо в дом к Балакиреву на знаменитые вечера – и вскорости случился с Колей конфуз. Такой, что даже и говорить стыдно. Нахватавшийся еще в институте разных передовых веяний юноша влюбился в горничную Парашу. И добро бы только влюбился! А то ведь самым серьезным образом, прямо как за барышней, принялся за ней ухаживать – и женился-таки, стервец! Отговорить, наверное, уже некому было… Но о решении своем не пожалели Николай с Прасковьей ни разу в жизни, потому что «во всяком благочестии и чистоте» дожили ровненько до золотой свадьбы в 1947 году, когда Николай Васильевич скончался от рака кишечника; жена пережила его на пятнадцать лет, но умерла точно от такой же болезни, чем доказала, что муж и жена действительно «едина плоть».
Это они, Николай и Параскева, обычно возглавляют мою записку поминаемых за упокой – а дальше идут их дети, числом десять…
Имеется в семье фотография из той поры, когда они были молодоженами. Прабабушка сидит, одетая «барыней», то есть в английском платье с пуговичками и невероятной шляпе-цветнике, а прадедушка стоит за ее креслом в забавном котелке, сюртуке и с тросточкой… Такой эта фотография запечатлелась у меня в памяти, и интересно сейчас будет проверить – правильно ли я запомнила. А вдруг, наоборот, дедушка сидит, важно отставив трость, а бабушка, как тогда было принято, стоит за его креслом, гордо держа голову в модной «парижской» шляпе?
…Вот, не выдержала и проверила, и убедилась, что память меня почти не подвела. Только оказалось, что прадедушка стоит не в сюртуке, а в расстегнутом пальто с бархатным воротником, а у прабабушки на платье пуговичек еще больше, чем я запомнила. Изображение чуть-чуть, очень деликатно подкрашено в бледно-пастельные тона; оно, вдобавок, несколько выгорело под испепеляющим оком времени – и простые, мудрые и добрые их лица смотрят на меня через неизбежную дымку вечности. Нет связи между тем миром и этим, кроме молитвенной памяти…









