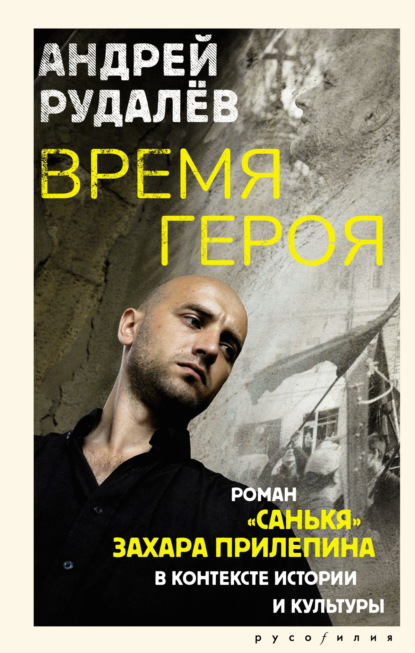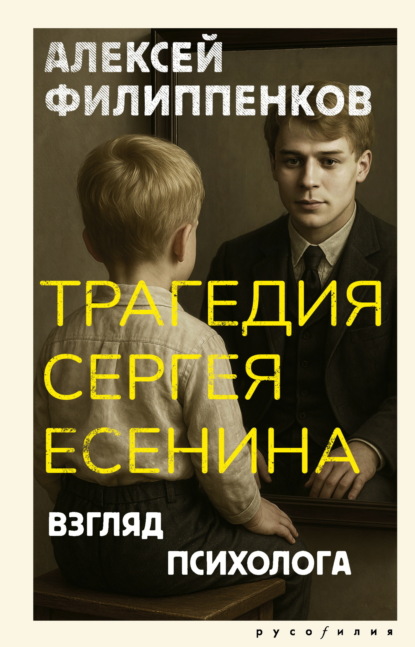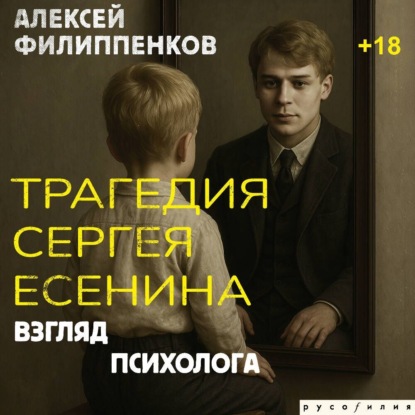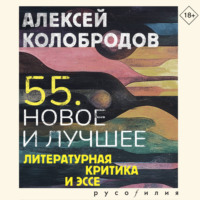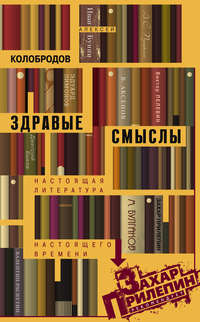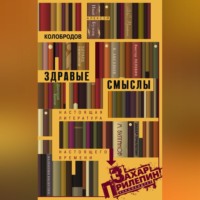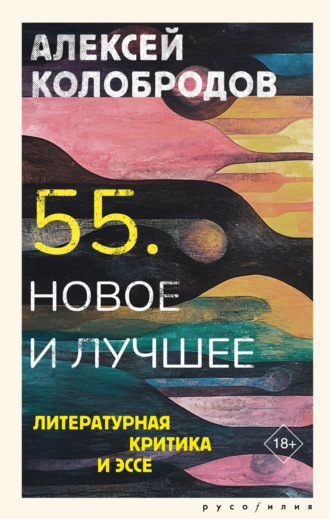
Полная версия
55. Новое и лучшее. Литературная критика и эссе
«Авиатор» же похож на забытый ныне, но хороший, мастерский роман Лагина «Голубой человек» (не ухмыляйтесь, тогда известных коннотаций и близко не было). Даже отрезок времени, через который перескакивают герои, одинаков и для фантастики не особо типичен – шесть десятков лет с копейками. Обычно литературные «машины времени» оперируют расстояниями, значительно превышающими человеческую жизнь.
Поздний роман Лагина – «Авиатор» наоборот: в «Голубом человеке» молодой рабочий из конца 1950-х, москвич, эдакий шестидесятник в проекции, неведомым образом попадает в Москву 1894 года и обустраивает тогдашнюю реальность как марксист-практик, но полный идеалист во всем, что касается морали и человеческих отношений. Круче него только молодой Ленин, с которым он, кстати, тоже встречается и разговаривает.
В центре нового романа Водолазкина – начинающий художник, петербуржец из интеллигентной семьи Иннокентий Платонов (лень говорить о чеховском герое в варианте «Неоконченной пьесы для механического пианино» и, собственно, Андрее Платонове, но, надо думать, доктор филологии Водолазкин, их тоже имел в виду, придумывая своего героя). Платонов, в 1932 году на Соловках, куда, в СЛОН (на все круги ада – тринадцатая рота, Секирка) попадает по обвинению в убийстве, и, доведенный до края, подвергается эксперименту академика Муровцева – заморозке. «Воскрешен» (отобранных для эксперимента лагерников на Анзере звали «лазарями» – коннотация очевидна) Иннокентий в 1999 году, и нету для него других забот (то есть существуют, конечно, – семья, заработок, но сугубо на втором жизненном плане), как – не столько восстановить, сколько упорядочить «дней связующую нить». Эдакий Гамлет и Робинзон в одном лице. (Первый у Водолазкина не проговаривается, второй активно присутствует.) Вообще, гамлетовские и робинзоновские мотивы чередуются в романе с шахматной точностью.
Вот «случай Гамлета», одно из сильнейших в «Авиаторе» мест: «Я подошел к гробу вплотную. Одна из боковых досок гроба отвалилась, но свет прожектора в образовавшуюся выемку не попадал. Ничего сквозь нее не было видно. Без того, чтобы открыть крышку, не убедиться было, что это Терентий Осипович. Только как это сделаешь?
<…> Все, словно завороженные, смотрели, как, обеспечив водоснабжением живых, городские власти принялись за усопших. Незаметно для других я сделал шаг к гробу и положил руку на полуистлевшее дерево крышки. Ощупал её. Там, где крышка соединялась с гробом, оказалась небольшая щель. Запустив в нее пальцы, с усилием потянул крышку вверх. Усилия не понадобилось: крышка легко поднималась. Я ещё раз бросил взгляд на окружающих – все по-прежнему наблюдали за укладкой трубы. Одним движением приподнял крышку и сдвинул её на край гроба. В бьющем сверху луче прожектора стали видны останки человека. Этим человеком был Терентий Осипович. Я узнал его сразу. Прилипшие к черепу седые волосы. Торжественный мундир, почти не тронутый тлением. Таким, собственно, он был и при жизни. Отсутствовал, правда, нос, и на месте глаз зияли две черные дыры, но в остальном Терентий Осипович был похож на себя. Какое-то мгновение я ждал, что он призовет меня идти бестрепетно, но потом заметил, что у него нет и рта».
А вот – сюжет робинзоновский; «Робинзон Крузо» у Водолазкина – вообще квинтэссенция христианской морали, что для русского (и взрослого) читателя неожиданно: «Я теряю силы, память, но не испытываю боли – и в этом вижу явленную мне милость. Я ведь знаю, что такое страдание. Оно ужасно не мучением тела, а тем, что ты уже не мечтаешь избавиться от боли: ты готов избавиться от тела. Умереть. Ты просто не в состоянии думать о таких вещах, как смысл жизни, а единственный смысл смерти видишь в избавлении от страдания. Когда же болезнь тиха, она даёт возможность всё обдумать и ко всему подготовиться. И тогда те месяцы или даже недели, что тебе отпущены, становятся маленькой вечностью, ты перестаешь считать их малым сроком. Прекращаешь их сравнивать со средней продолжительностью жизни и прочими глупостями. Начинаешь понимать, что для каждого человека существует свой план».
Чтобы дальше не спотыкаться на филологических святцах Евгения Германовича, отмечу, для иллюстрации их щедрости, и вовсе неожиданного здесь Александра Галича (хотя почему неожиданного? контекст вполне чекистский, а значит, инфернальный: «Тут черт потрогал мизинцем бровь… / И придвинул ко мне флакон, / И я спросил его: „Это кровь?“ / „Чернила“, – ответил он…»). Платонов идет с визитом к выжившему, столетнему соловецкому начальнику:
«Без этого, Иннокентий Петрович, – разъяснил Чистов, – мы с вами к гражданину Воронину не пойдём.
Иннокентий Петрович задумчиво взял авторучку.
– А в ручке что?
– Представьте себе, чернила.
В тоне Чистова не было ни малейшего неудовольствия».
И ещё одна, в случае Евгения Германовича, видимо, подсознательная параллель с Лагиным – Платонов, на фоне людей конца 1990-х (в которых ничего дурного ни автор, ни герой особо не фиксируют) выглядит идеальным, «голубым»; человек из прошлого, равно как лагинский «человек будущего», оказывается выше нас, современников, уровнем здравого смысла и морали.
2Соловецкий контекст неизбежно провоцирует вспомнить одно из самых серьезных явлений новейшей русской литературы, роман Захара Прилепина «Обитель». И критики дружно вспомнили. Галина Юзефович: «К слову сказать, Соловки описаны у Водолазкина по-шаламовски страшно – куда жестче, например, чем в прилепинской „Обители“». (Замечание, на мой взгляд, не совсем точное – и не по поводу Прилепина даже, но Шаламова: литература Варлама Тихоновича вопиюще не родственна филологической прозе, виднейшим представителем которой является Водолазкин.) Андрей Рудалев: «Важное место в романе занимают Соловки 20-х годов XX века. В последнее время к этому месту большое и пристальное внимание. Захар Прилепин написал свою великолепную „Обитель“, Александр Ф. Скляр в своём новом блестящем альбоме спел про остров Анзер. Все видят там модель страны, место, где наиболее отчетливо сходятся в противостоянии ад и рай. Там они находятся вместе, бок о бок».
Кстати, Александр Феликсович объединил соловецкий духовный подвиг, монашеское делание, ещё и с советским юношеским романтизмом «Двух капитанов» – «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
У Скляра:
Найти – и не сдаваться,Искать – и не свернутьИ помнить, где желание – там путь.(«Анзер», альбом «Ястреб».)(Вообще, статья Андрея Рудалева «Неживая материя замороженного «Авиатора» – работа очень толковая в плане разъяснения христианских и, так сказать, политических мотивов романа. Андрей также подробно разбирает разрешение феномена времени у Водолазкина. Дабы не повторять Рудалева, отсылаю читателя к этой, опубликованной на «Свободной прессе» рецензии. А мы пойдём немного другим путем.)
Итак, родство «Обители» и «Авиатора», безусловно, наличествует, однако Соловки мне представляются ложным следом. Важнее тот самый «последний аккорд Серебряного века», который увидел Прилепин в соловецкой мистерии. В «Авиаторе» эти звуки ушли в букву, воплотились в самой фигуре Платонова. Отнюдь не случайно титул романа повторяет название известнейшего стихотворения Александра Блока. Более того – один из сюжетов романа – как раз пересказ в прозе блоковских стихов. Жест, надо сказать, храбрый – изложение Водолазкина обогащает Блока лишь фамилией летчика: Фролов.
И, кстати, названия «Обитель» и «Авиатор» – из одного звукового ряда Серебряного века. Однако если у Прилепина его остаточная энергия помогала строить авантюрный сюжет, направляла страшные и жертвенные поступки героев, программировала лютость века, то у Водолазкина её импульсы приобретают единственно куртуазное измерение. Платонов выходит некоей «девичьей игрушкой»; так, его возлюбленная, а потом жена Настя не устает повторять, каким дивным мужчиной (в сугубо физиологическом смысле) оказался размороженный Иннокентий.
И этот незамысловатый символ – своеобразный ключ к пониманию романа (энергия бушует узконаправленно, тогда как всё прочее, то есть реальность 99-го, погружается в энтропию настолько, что феноменологии, достойной внимания рассказчика, не заслуживает). Который при всем богатстве контекстов и аллюзий, претензиях на философскую глубину и метафизику, оказывается полым внутри. И, местами, неосознанно пародийным по отношению к писательской манере Водолазкина.
3Поскольку персонажи и многие линии романа попросту фанерны, подобно конструкциям первых аэропланов. Доктор Гейгер, лечащий врач и опекун Платонова в новой жизни, настолько схематичен и условен, что кажется, будто не Иннокентия, а булгаковского доктора Борменталя заморозили в наказание за эксперимент над Шариковым, и в 90-х ожил именно Борменталь. Про единственную оригинальную эмоцию Насти я уже говорил. Ближе к финалу Водолазкин, похоже, устав от тщетных попыток вдохнуть в окружение Платонова живые дела и страсти, маскирует неудачу постмодернистским приемом, типа «смерти автора». Записи всех троих героев сливаются в некий интертекст. По-своему честно, хоть и не оригинально.
Любопытно: самым подлинным и ярким персонажем оказывается герой второго (хотя как посмотреть) плана – Зарецкий, обыватель, стукач и расхититель социалистической собственности. По сюжету «Авиатора», Зарецкий – та самая бредбериевская бабочка, способная изменить генплан истории. Он действительно хорошо и выпукло написан, а особой рельефности образу прибавляет ворованная колбаса, которую Зарецкий прячет, вынося с производства, между ног, ибо гениталии его мельче любого колбасного изделия.
Надо сказать, авторы профессорских романов полагают себя большими мастерами в деле создания эффекта многозначительности, с помощью паузы, тумана, умолчания, какой-нибудь насекомой детали. Понятно: подобное умение укрупняет и возвышает повествование, переносит в иной регистр. Согласно блистательной формуле Михаила Лермонтова:
Есть речи – значеньеТемно иль ничтожно,Но им без волненьяВнимать невозможно.Однако подобный уровень квалификации весьма редко встречается. Лермонтовское определение применимо к Пастернаку, пожалуй, всех периодов; Дмитрий Галковский говорил, что в полной мере этим умением обладали Стругацкие в лучших вещах. Однако Водолазкин в «Авиаторе», нагнетая многозначительность, разве что покачивает фанерными крыльями.
Просчитывал ли автор долгую инерцию «Лавра» при прочтении «Авиатора» – судить не берусь. (Хотя не бином Ньютона, разумеется.) Но именно так, под сенью «Лавра», будут читать, уже читают и критикуют. Загребая множество сильных аналогов, глубоких полутонов и культурных кодов. Да и я, грешный, не удержался – с тем же Лазарем Лагиным. Вовсе не собираюсь ни в коей мере принижать литературный вес Евгения Водолазкина. Сравнение с Лагиным, хорошим советским писателем, на мой взгляд, куда лучше штампа про Умберто Эко. А значит, сравнение возвышающее, вернее, из смежных сфер.
«Авиатор», в основных позициях и картинах – ностальгически-комариная дачная идиллия, брат-чекист, «Преступление и наказание», в смысле, что второго без первого не бывает (идея о возмездии, верная и незатейливая) – очень похож на «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова. Я не про сиквелы – сумасшедшее «Предстояние» и диковатую «Цитадель», а про первых «Утомленных солнцем» – мастеровитых, скучноватых, чуть пародийных, оскароносных.
И послевкусие схожее – крупный художник замахнулся на притчу о времени, а получилось сработать на «Оскар». Впрочем, для издательского маркетинга – лучше результата и не придумаешь. Кстати, у «Авиатора» Мартина Скорсезе «Оскаров» – пять.
2016 г.Комментарий 2023 г.: Читаю «Чагина» Евгения Водолазкина.
Я никогда не принадлежал к поклонникам именитого писателя, даже к прославленному «Лавру» у меня есть претензии. Поругивал я, было дело, «Авиатора» (за пустоватую многозначительность и профанацию трех таких разных, но явно связанных между собой сущностей, как советский проект, либидо и загробная жизнь) и «Брисбен» (слащавость и сугубая, до беспомощности, сконструированность).
В «Чагине», сужу по первой части, уходят водолазкинские амбиции на некое стилистическое первородство (написано всё простецки, не без интеллигентского университетского юморка), но приверженность игровой прозе, с постмодернистским соблазном цитатности, остаётся. Так кого, думаю, мне эта история напоминает? Ну да, точно – роман Фридриха Горенштейна «Место», написанный в 1972 г., отредактированный в 1976-м и лежавший мертвым грузом в столе у автора (даже в самиздат не брали, но там своя история), а впервые на русском вышедший в 1991 г., известно на какой волне, точнее, спаде её.
Ну, растиньяковский сюжет способного (у Водолазкина – с одной, но феноменальной способностью) молодого человека в имперских столицах, да в эпоху перемен – слишком общий, а вот дальше идут совпадения фабульные и смущающие. Подтаивающая грязями империя, хрущевские хляби, подпольные кружки, КГБ в качестве борхесовской библиотеки (Горенштейн едва ли читал Борхеса, а вот Водолазкин обоих) как субстанция просвещающая, карающая и метафизическая. Нежная девушка из хорошей богатой семьи, служащей режиму творчеством, которая предпочитает одного стукача другому, и Новочерскасский бунт как мотор сюжета.
С негодованием отвергаю версию о прямых заимствованиях и продолжаю размышлять над феноменом советских шестидесятых, которые заставили в одинаковых, до зеркальности, категориях описать себя и Фридриха Горенштейна, ощущавшего себя пророком ветхозаветной принадлежности, и Евгения Водолазкина, специалиста по русскому литературному средневековью.
Проблема в том, что у Горенштейна роман чрезвычайно глубокий и почти гениальный, а у Водолазкина – весьма поверхностный и (пока) посредственный, но может, дальше всё обретет достойные писательского имени Евгения Германовича параметры и, наконец, разъяснится.
Немцы Поволжья, Сталин и английский газон
Гузель Яхина, самое свежее и громкое имя последних литературных сезонов, автор нашумевшего и увенчанного премиями романа «Зулейха открывает глаза», написала вторую большую вещь – «Дети мои» (М.; АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018 г.). Книге по выходу прочили шумный читательский успех и заслуженное бестселлерство. Прошло чуть более полугода: неплохие продажи при отсутствии ярко выраженных критических восторгов, номинация на «Нацбест» от самого Евгения Водолазкина, чей свежий роман «Брисбен» в лонг-лист, кстати, не попал.
Важнее, однако, что согласно неписаным законам русской словесности, теперь Гузель Яхина может считаться настоящим писателем. Поскольку первую удачную книгу может сделать и талантливый дилетант, а потом уйти обратно в жизнь и заняться дипломатией или, скажем, алкоголизмом. А вот второй роман – это уже осознанный выбор тернистого пути, амбиция и жертва, трудная принадлежность к ордену. Впрочем, трудности и тернии, похоже, не про Яхину – ей уверенно прочат статус скорого классика.
Критика и публика полагают, что Яхина пришла в современную русскую литературу с собственной темой. Одна из моих читательниц иронически вопрошает: «О каком малом народе, пострадавшем сами знаете от кого, будет следующая как следует не написанная книжка Яхиной? Вот что интересно))». Действительно, основная линия «Зулейхи» – татарская деревня и семья на фоне раскулачивания, спецпоселений на Ангаре и прочих мрачностей 30-х годов двадцатого века. В «Детях моих» малым народом работают поволжские немцы, историческая подкладка – 20-е и те же 30-е, время короткого и яркого существования (1923–1941 гг.) Автономной Республики немцев Поволжья в составе РСФСР. Их потомки, рассеянные по миру, до сих пор называют себя Volga-Deutsche.
Однако я должен возразить общепринятому мнению – эпосы Яхиной обходят историю и быт малых народов по изящной касательной – в «Детях моих» ситуацию не спасает и вполне искусственно, для вящего масштаба, введенный образ Вождя, Сталина, который как раз мыслит исключительно категориями государств и народов. Прием не срабатывает, в полном соответствии с поговоркой: мухи отдельно, котлеты отдельно. И тогда возникает следующий вопрос – а можно ли вообще полагать книги Яхиной эпопеями, или это небольшие, по сути, размером с повесть, истории о хороших людях, которые умеют ими оставаться, несмотря на катаклизмы и катастрофы эпох? Кстати, Галина Юзефович полагает эту идею слишком банальной для пятисотстраничного романа, но мне представляется банальностью не сам гуманистический пафос, но претензия, заставляющая разгонять объём текста за счет природы, погоды, смены времен года, ландшафтного дизайна, массы гладких, как речная галька, но, в общем, необязательных слов.
Подобная манера легко проецируется на писательский статус Гузель Яхиной – при всем ажиотаже и комплиментах, да и несомненной её литературной одаренности, не покидает ощущение, что издательского проекта здесь больше, чем авторской индивидуальности (о «проектности» Яхиной регулярно говорит критик Андрей Рудалёв). Разгон и надувание до неестественных объемов, взращивание писательского имени на рыночных анаболиках.
Для полного писательского счастья не хватает потного вала критических вдохновений. Относительно романа «Дети мои», как заметил тот же Андрей Рудалёв, «критики в растерянности». Хвалить воздерживаются, а ругать, мол, не знают, за что.
Да есть за что, конечно. Самый принципиальный изъян «Детей моих» бросается в глаза с ходу. Непопадание в жанр, провисание смыслов, концептуальный недобор по очкам. Роман, надо полагать, был задуман как семейная сага, но затем замысел трансформировался, унесенные ветром оказались в Макондо, или даже в Чегеме. Ну да, магический реализм; вдохновителем которого Галина Юзефович полагает старину Толкиена. Но тут, мне кажется, если и есть сходство, то чисто внешнее, оригинальных миров и прочей космогонии в «Детях моих» нет, они вполне вписаны в реальную эпоху и географию, человеческие проявления, боль и страдания – настоящие. Никакое не фэнтази. Реальные ориентиры – именно Маркес и Искандер.
В чем сила их знаменитых эпопей? В немалой степени – в точных пропорциях мифологии и этнографии, реальной истории и фольклора, фотографических деталей быта и метафизики (ещё, конечно, юмор, ландшафт, философия, жизнеподобие абсурда и etc). Этнографически-бытовой слой – важнейший, классики это знали и умели, даже в насквозь мифопоэтической вещи Саши Соколова «Между собакой и волком» рыбаки, охотники, бродяги «Заитильщины» и Валдая пребывают в грубо-реальной предметности.
Надо сказать, интереснейшая история Автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья художественно практически не осмысленна. Академически тоже не сказать, чтобы очень. Писательнице Яхиной было, конечно, где и как развернуться.
При том этнографии в романе пайковый минимум (только имена с фамилиями, да далекий Рейх в воспоминаниях и дерзаниях), за самобытность отвечают сказка, кирха и томик Гёте, всё прочее уходит в зыбкий символизм и волжскую набежавшую волну; даже бунт немецких крестьян, совсем как русский, бессмыслен, беспощаден и универсален. (Кстати, сцена антиколхозного мятежа сильная, а могла бы стать мощной, если бы все нужные слова стояли на своём месте, а лишних бы не было вовсе.)
Писательница явно в теме, материал знает (о чем свидетельствуют авторские комментарии к роману), разве что Покровск – столица Республики с 1922 года, у нее и в 30-е остаётся Покровском, тогда как в Энгельс он был переименован в 1931 году. (Но это ладно, миру – миф.) Однако зачем-то нарочито и демонстративно уходит от конкретики – и объективно крепкая проза то и дело становится рыхлой и водянистой.
Интересно, что на примере «Детей моих» можно со всей непреложностью убедиться, насколько законы рынка противоположны подлинной литературе. Гузель Яхина рассуждает, наверное, как матерый продажник и уповает на стратегии ребрендинга – дескать, любой давно знакомый потребителю товар пойдет лучше, будучи снабжен новой завлекательной упаковкой.
Занятно при этом, что Яхина работает с готовыми литературными конструкциями не только по рыночному принципу, но и по внутреннему убеждению – она, как мне кажется, совершенно искренне уверена, что именно так и надо, большая литература так и осуществляется. Эдакий английский газон.
Начать с того, что нет у нее и тени иронии, даже намека на пародийность (как это водилось у отечественных постмодернистов) при освоении общеизвестных приемов и сюжетов. Яхина напоминает участковую докторшу, которая каждому по-разному захворавшему ребенку с неизменной серьезностью выписывает одни и те же порошки и подробно объясняет порядок применения.
Потому все ключевые сюжеты и образы великой эпохи эксплуатируются невесть по какому кругу без всякой рефлексии. Изнасилование хозяйки хутора солдатами/бандитами/казаками – было у Бабеля, Шолохова, Горенштейна наконец. Будет теперь и у Яхиной, а как же. «Я как все».
Если беспризорник, имеются всегда готовые и колоритные Мустафа из «Путевки в жизнь» и Мамочка из «Республики Шкид». У Яхиной подобного типа зовут Васька, позже он получает фамилию Волгин.
Ну и, конечно, образ Вождя. Опять без всякого отклонения от нормы, солидно и сознательно берется Сталин солженицынский («В круге первом»), арендуется у Анатолия Рыбакова («Дети Арбата» и сиквелы), ну, и, понятно, взят внаём Сталин «Пиров Валтасара» у Фазиля Искандера. Называется он, натурально, словом «Он», непременно с большой буквы (Яхина использует ещё и курсив).
Роман-пазл, роман-каталог. А отступает от шаблонов Яхина, когда описывает пограничные людские состояния и людей, вечно в них пребывающих, то есть детей. Вообще, как мне кажется, из нее мог бы получиться замечательный автор школьных повестей – жанра, чрезвычайно популярного в позднесоветское время. Именно здесь метод осознанной как миссия вторичности был бы весьма уместен – хотя бы для сравнения школьных времен и нравов.
Еще одна несомненная удача – описание хуторской жизни с её круглогодичными насущными трудами и заботами (здесь очевидна параллель со столь же неровным романом Петра Алешковского «Крепость», сделавшимся, тем не менее, лауреатом русского Букера – там тоже замечательны и естественны сельскохозяйственные страницы). Взялась бы Яхина описывать сельскую школу – уверен, это было бы по-настоящему талантливо, без необходимости натужного масштабирования и привлечения кустарно и неуклюже склеенных метафизических слоев.
Для пребывающей в объективном кризисе современной русской художественной литературы одна яркая и честная подростковая повесть сегодня куда полезнее десятка переливающихся пузырями ложной многозначительности псевдоэпопей. Не только Гузели Яхиной касается.
2019 г.Первый вор. Александр Пушкин и криминальная футурология
Как будто пробку из людей вытащили расстрелом Деда Хасана.
Пишут невообразимое количество чепухи.
Колумнисты-эссеисты либерального направления срочно переквалифицировались в криминальные репортеры.
Да что там, бери выше – в серьезные исследователи традиций и практики воровского мира. Люди, которые, подозреваю, и в пионерлагере-то не были, важно рассуждают о сроках, ходках и сходках.
Персонажи, видевшие суд только снаружи, а тюрьму – в сериалах, квалифицированно спорят о нерушимости моральных принципов в сообществе, сходясь во мнении, что от воровской короны нельзя отказаться, её можно только потерять. Вместе с головой.
Но больше всего умиляет рефрен про 90-е. Ах, 90-е возвращаются! Ах, они и не проходили! Ах, слишком рано мы забыли эти 90-е!
Ну ясно, что это снова «от нашего столика – вашему столу», воплощенная укоризна власти, которая среди своих геракловых подвигов числит обуздание и приручение отечественного криминала, преодоление «лихих 90-х». Отнюдь не календарное. Но тут есть тонкий момент – власти нигде не отчитывались о победе над воровским миром. Может, из скромности. Если даже у Сталина не вышло – где уж нам там…
Помимо всего прочего, товарищи писатели, а в чем связь 90-х с профессиональным криминалитетом «воровского хода» вообще и конкретным Дедом Хасаном в частности? Ну да, обнаружились тогда у блатных конкуренты – бригады «новых», «спортсменов», «братков». Где-то конфликтовали, иногда договаривались, подчас сами «новые» шли на союз с ворами – тактический и стратегический, памятуя, что от тюрьмы да сумы…
Ничего особо принципиального, бывало куда круче:
– 20-е–30-е – возникновение воровского сообщества в его более менее институциализированном виде, на стыке традиций и предания дореволюционного каторжанства и массовой беспризорщины. (Другой мощный поток рекрутов – дети ссыльных раскулаченных крестьян.) Появление скрижалей воровского закона;
– поздние 40-е – «сучья война»;
– конец 50-х – начало 60-х – хрущевские репрессии старейших и уважаемых воров в законе;
– 70-е – 80-е – засилье «лаврушников» (воров грузинского и – шире – кавказского происхождения), либерализация «понятий», появление «апельсинов» (людей, коронованных за деньги или по бартеру – реальные или потенциальные услуги сообществу).