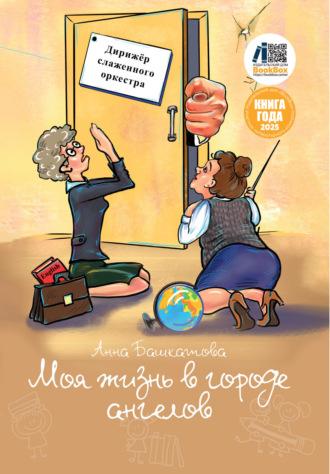
Полная версия
Моя жизнь в городе ангелов
Г) Будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Здесь явно не хватает фразы «всё это поможет преступникам твёрдо встать на путь исправления». Такое ощущение, что эти строки не из рабочей программы по иностранному языку, а из какого-нибудь судебного приговора.
Какая такая социальная справедливость? При чём тут свобода? Изучил названия цветов на английском и заодно понял, как нести личную ответственность за свои поступки? Извиняй, товарищ одноклассница, что за косичку тебя дёрнул, в тот момент я как-то не подумал, что придётся нести личную ответственность за этот аморальный поступок. Ведь это социально несправедливо, так как мы находимся на одной ступени социальной лестницы. Но больше я так себя вести не буду, потому что теперь знаю, что синий по-английски – это blue. Шик, блеск, красота!
Д) Будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Прямое продолжение предыдущего подпункта. Товарищ одноклассник, ты потерял тетрадь? Как я тебя понимаю и сочувствую! А вот если бы мы не выучили сегодня, как по-английски будет «бабушка», то я бы тебе не сочувствовал! Да-да, до этого урока я был недоброжелателен и страдал отсутствием эмоционально-нравственной отзывчивости, но теперь у меня открылись глаза! Давай поплачем вместе, а потом пойдём искать твою тетрадь. Так создатели программы себе это представляют? Видимо, именно так. Выходит, зря спорят учёные мужи по поводу того, стоит ли в школах вводить обязательные уроки этики. Зачем зря педагогов нанимать, да ещё и деньги им платить? Добро пожаловать на уроки английского языка! И на ёлку влезть, и кое-что не ободрать. Экономия, однако!
Е) Будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Не буду заостряться на навыках сотрудничества и умениях не создавать конфликты, а вот об умениях находить выходы из спорных ситуаций поговорить стоит. Общаться на такую тему – высший пилотаж, даже в десятом и одиннадцатом классах это не всем ученикам даётся, и объясняется это просто. Чтобы разрешить конфликт, да на иностранном языке, необходимо, во-первых, иметь жизненный опыт, и немалый, а во-вторых, владеть нужной лексикой, и не на своём родном, а на «чужом» языке. Ни первого, ни второго у выпускников начальной школы быть не может по определению хотя бы в силу возраста. Сами прекрасно знаете, договориться о чём-то в спорной ситуации даже нам, взрослым, не всегда под силу, а уж младшеклассникам это абсолютно недоступно. И никакой язык, ни английский, ни немецкий, ни французский, маленькому ребёнку в этом не поможет. Я мало в чём в своей жизни уверена на сто процентов, но вот в этом уверена. И никто меня не разубедит.
Ж) Будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Слов нет, одни восклицательные знаки. Если дети к десяти годам не знали, что надо чистить зубы дважды в день, умываться, стараться не рвать, не пачкать и не терять вещи, а также понятия не имели о том, что деньги у родителей не появляются ниоткуда, если для того, чтобы получить такую «засекреченную» информацию, им понадобилось начать изучать иностранный язык, то я не могу понять, в какой стране мы живём. Можно ли назвать эту страну цивилизованной и должны ли мы «испытывать чувство гордости за свою Родину», как сказано в подпункте «А» данной рабочей программы? По-моему, уже даже в самых диких-предиких племенах Африки такие основы поведения считаются нормой и закладываются в самом раннем детстве. Так что ниже падать уже некуда, если только консервные банки на золото начать обменивать.
Надеюсь, изучение иностранного языка спасёт нас хотя бы от этого.
Теперь понимаете, почему я назвала рабочие программы «совершенно кошмарной хренью»? Так как нормальному человеку мысли, изложенные со всей серьёзностью в этом документе, в голову не придут даже в состоянии крепчайшего опьянения, то обычно эта программа слизывается с какой-нибудь книги для учителя, сдаётся проверяющему, которому, конечно, больше делать нечего, кроме как читать эти бредни (в школе примерно сто учителей! Здоровья не напасёшься, всё читаючи!), и все живут спокойно до следующего года. Исключение составляют те года, когда школа проходит очередную аттестацию, вот тогда за рабочую программу треплют по полной, не то что семь – десять шкур сдерут и не подавятся. Вот в тот самый год аттестации школы рабочую программу по младшей школе (2-й, 3-й, 4-й классы) мы благородно решили составлять втроём. Ирке досталась пояснительная записка (та ещё сивобредовня), мне предстояло разработать календарно-тематическое планирование (где, когда, с кем и зачем), а Эльзе, как молодому специалисту, прилично владеющему компьютером, предлагалось свести обе части вместе, а мою часть ещё и оформить в виде таблицы.
Мы планировали заняться этим идиотизмом летом, всё равно в один из летних месяцев приходится вкалывать. Тем летом мы все втроём наслаждались работой в июле – месяце, относительно свободном от собственно работы. Вот и было решено этим воспользоваться. Мы с Иркой свою часть безумия одолели за неделю. Эльза провозилась со своим заданием оставшиеся три. В конце июля она таки прислала мне на электронную почту окончательный вариант программы. Открыв письмо, я проморгалась, поморщилась, потряслась слегка как блохастая Жучка, потом подумала: «Я же вчера не пила». Потом: «Где я? Что это? На Бушмановку можно бесплатно устроиться?»
Можно смеяться, можно рыдать, но в том чудесном письме я не нашла, хоть и честно старалась, ни слова от тех записей, которые мы с Ирой Эльзе добросовестно предоставили.
Разбирались мы долго, муторно и с долей истерики, но в конце концов выяснилось: наши с Иркой заготовки Эльза просто… потеряла. И, не утруждая себя просьбами повторно предоставить материал, от балды написала невесть что. Уж на что рабочая программа – документ странный, но то, что составила Эльза, походило на рабочую программу так же, как собачий хвост на сито.
Не скажу, что мы обозлились. Вернее, Ирка-то обозлилась, правда, в своей манере, тихонечко, я же огиенилась до звериного визга, особенно после того, как Эльза выплюнула в нашу сторону:
– Ну и пишите всё сами!
И это после того, как мы и так всё сами написали! Высказав друг другу пару ласковых, на том в итоге и порешили: она сама, мы сами. Сели с Иркой, восстановили, свели воедино, сдали…
Думаете, на этом всё и закончилось? Ха-ха.
Уже в октябре, спустя месяц после начала учебного года и дурацкой аттестации, мы узнали, что Эльза решила не принимать всё близко к сердцу и не напрягаться. Свою идиотскую программу начальству она не понесла, уж на это ей ума как-то хватило, но и новую программу писать ей не очень хотелось, вернее, очень не хотелось. Поэтому она дождалась, когда мы сдали своё планирование и его одобрили наши высшие инстанции. Дальше всё было элементарно: Эльза подошла к начальству, доложила, что программу по младшим классам составляли не двое, а трое, только вот – какая непростительная халатность – её фамилию на титульном листе забыли указать. Ну, это дело-то нехитрое, минутное. Фамилию тут же вписали, программу бедняжке выдали (а то злые А. и Ирка трудами-то Эльзы воспользовались, а программу зажучили, не да-а-али сиротинушке), и Эльза спокойно пользуется ею и по сей день. Изящно, правда?
Я не случайно столько пишу об Эльзе и наших взаимоотношениях. Объясняется сей факт одним словом: кабинет. Да-да, тот самый кабинет, единственным обладателем которого в младшей школе до поры до времени являлась Ирка. Для получения «личных апартаментов» в нашей школе существуют негласные правила. Первое правило соблюдается безоговорочно, и исключений из него не бывает. Если ты становишься классным руководителем – получи, мил человек, собственные квадратные метры. Перестал «руководить» – изволь выйти вон. Второе правило более расплывчато, но и оно имеет некие очертания. При наличии свободного кабинета первым кандидатом на него становится:
А) Тот, кто дольше работает в школе.
Б) Тот, у кого результаты обучения выше.
В) Тот, у кого больше хлама – учебных пособий, включая портреты, плакаты и т. п.
По всем этим трём показателям первым (из двух – себя и Эльзы) и безоговорочным кандидатом на получение «жилплощади» являлась я. Я – и точка. Без бахвальства и излишнего самомнения. Поэтому, узнав (причём совершенно случайно, через третьи руки, вернее, голоса), что временно свободная «жилплощадь» отошла Эльзе, в состояние прострации впала не только я, но и весь коллектив младшей школы.
Понимая, что ничегошеньки не добьюсь и просто лишний раз избавлюсь от изрядного количества своих нервных клеток, я всё же пошла к Мошкиной. Обладая слишком прямолинейным характером (мама говорит, что я прямая, как трамвайная шпала), я всегда стремлюсь выяснить всё до конца, «назло врагам, на радость маме». Ну вот, да, молчать – не моё…
– Почему кабинет достался Эльзе? – не поздоровавшись, вопросила я, перепрыгнув порог.
В литературе, как и в жизни, выражение «я ожидала всего, чего угодно, но только не этого» затёрлось до лохмотьев, но в данном случае придётся воспользоваться именно им.
Итак, я ожидала услышать всё, что угодно, кроме:
– Ну как же, она попросила разрешения покрасить шкафчики. Кабинет пустой, шкафчики обшарпанные…
– И заодно с краской перетащила в кабинет все свои манатки? – шибко гневаясь, я перестала выбирать выражения.
То, что решение отдать кабинет Эльзе, было спущено сверху, мне стало понятно уже на второй фразе Мошкиной, поэтому повторять тот детский лепет, граничащий с бредом, который она несла со своей наклеенной улыбкой, у меня нет ни малейшей охоты. Упомяну только «я не думала, что Эльза Александровна займёт кабинет, не предупредив вас» и «может быть, вы попросите её разрешения изредка там бывать».
Раньше часто передавали из уст в уста, теперь из поста в пост, что продвижение по службе зависит не от того, насколько действительно хорошо и эффективно ты работаешь, а от того, в каких отношениях ты с начальством. Иначе выражаясь, насколько вовремя ты успел поцеловать командира в нужное место. Тоже не новая, весьма заезженная мысль, но от этого она не перестаёт быть актуальной. Так вот, правда это, дорогие читатели, горькая, тяжёлая правда. Даже в таком «непрестижном» месте, как школа. Ну что теперь переливать из пустого в порожнее, ну её, эту Эльзу. Кстати, через два года кабинет у неё отобрали. Наверное, вовремя чмокнуть кого-то забыла.
Что ж, с коллегами пока всё, пора перейти к тем, ради кого школа и работает, – к детям. А дети бывают разные, ой, разные – умные, тупые, адекватные и нет, агрессивные, спокойные, на всё плюющие, чересчур любознательные… Про умных и писать смысла нет, не так ли? Так что опишу контингент позабористей.
***
Работать с больными детьми так же трудно, как и с тупыми. Со временем они становятся прекрасными манипуляторами, и при отсутствии начальства, которое работает за тебя, а не против, бороться с этим практически нереально.
Наше знакомство с Ваней произошло, когда тот перешёл во второй класс. Заболевание у него было действительно серьёзное – что-то с иммунной системой. В течение года он мог два-три месяца провести в больнице, но, так сказать, «без отрыва от производства», продолжая обучение. Мне неизвестно, почему родители предпочли отправить его в школу, а не оставить на домашнем обучении, но от этого не легче, так как родители требовали относиться к нему так же, как ко всем, но в то же время совсем не так, как к любому. Понимайте, как хотите. На отличника мальчик, безусловно, не тянул, и сплошных пятёрок, к счастью, от нас (имею в виду себя и остальных педагогов, работающих в этом классе) не требовали, но, как только отметки опускались ниже четвёрки, начинались показательные выступления на летней танцплощадке. Ваня приходил домой и, трагически подвывая, начинал:
– Учительница на меня постоянно кричит.
Родители заламывали руки, Ваня повышал градус:
– Мне ставят двойки ни за что.
Родители заламывали уже и ноги.
– Я хочу в другую группу! – надрывно вопил Ванятка.
– Пойдёшь! – родители стучали кулаком о стену и, отряхнув коленки и закатав рукава, прямиком отправлялись к завучу, минуя два предварительных и, по их мнению, совершенно лишних звена: меня и классную руководительницу.
Мошкина, увидев знакомые лица, печально вздыхала и принималась за свою привычную диспетчерскую работу: разводить самолёты в воздухе.
Знаете, Мошкина действительно из тех, о ком говорят «она на своём месте». Она идеальный тип начальства, особенно в женском коллективе (как раз мой случай).
Во-первых, у неё очень мягкий, монотонный, тихий, какой-то усыпляющий голос, который она никогда не повышает. И преподавателей это часто вводит в заблуждение: слушая её еле слышное успокаивающее журчание, кажется, что она на твоей стороне. Серьёзно, её голос творит чудеса: абсолютно невозможно поверить, что так разговаривает человек, настроенный против тебя.
Во-вторых, практически всегда Мошкина улыбается и кивает. Кажется, что она с тобой соглашается, а на самом деле согласием и не пахнет.
В-третьих, дамочка никогда не скупится на ласковые слова. Мы все у неё самые лучшие, самые прекрасные, самые чудесные и вообще…
– Я уверена, что вы в самом ближайшем будущем станете главой своего методического объединения, – поёт она одной.
– Лучше вас никто не справляется с трудными детьми, – мурлычет она другой.
После таких песнопений дальнейшие гадости воспринимаются чуть ли не как комплименты.
В-четвёртых, Мошкина щедро и душевно делится своими трудностями, подстерегающими её на высоком посту. Причём говорит обо всём очень доверительно, почти интимно, давая понять, что только ты можешь её понять. И с родителями ей трудно, и дети пошли неуправляемые, и директор ей постоянно выговаривает… После таких откровений чувствуешь, что твои проблемы по сравнению с трудностями этого чудного человека не такие уж и серьёзные. И вообще, как можно жаловаться и говорить о себе в такой ситуации! Вон как страдает бедняжка завуч! Лучше помолчать, уступить, хоть так человека утешить.
Так что Мошкина вписывается в свою должность тютелька в тютельку. С позиции директора, разумеется, а не с нашей.
В ситуации с Ваней всё прошло точно по известному сценарию. Мягко, даже жалостливо у меня поинтересовались, в чём проблема. Мой краткий рассказ. Пауза. Ждут оправданий. В то время я ещё на это ловилась и горячо доказывала, что:
А) Никаких двоек ни «ни за что», ни «за что-то» у Вани нет. В этом можно убедиться, просмотрев классный журнал – документ всё-таки!
Б) «Кричать» и «повышать голос» – разные вещи. Пожалуйста, давайте спросим остальных детей из группы, кричу я или нет.
В) Учиться на твёрдую четвёрку Ваня может, но не считает нужным, всё больше привыкая добиваться хороших оценок различными манипуляциями, причём это касается не только английского языка. Спросите классного руководителя. Оценки ему ставятся по тем же критериям, что и другим. Не ниже, не выше.
Г) По поводу перехода Вани в другую группу никаких возражений не имею, а даже и приветствую. Иру только жалко.
Выслушав все мои оправдания, сопровождаемые со стороны Мошкиной трагической улыбкой и энергичными кивками, должными изображать сочувствие, администрация в свою очередь сообщала мне, что:
А) Даже если не поставила два в журнал, а только пообещала или, не приведи господь, только подумала об этом, это уже оскорбление для Вани, а тем паче для его родителей.
Б) Мой темперамент и манера поведения ведут к тому, что мой тон на 90 % воспринимается как крик. Так что лучше снизить децибелы процентов на 97 %. А лучше и на 100 %.
В) Перевод в другую группу – не выход. Там 18 человек, а у меня только 12. Нехорошая статистика получится.
Г) Ваня – мальчик особенный, относиться к нему, как ко всем, нельзя.
Этот пункт разбивался на подпункты: а) Если мальчик не хочет отвечать на уроке, не надо настаивать. Может, у него живот болит. Или просто настроение плохое. б) Оценивать его как всех тоже нельзя. К нему надо применить дифференцированный подход. Всем задать целое упражнение, а ему – половину. Или треть. Или одно предложение.
Ну и всё в таком духе.
Показав мне, какая политика партии проводится в данный момент, и устлав мой путь до порога кабинета обильными улыбками, меня отпускали.
Из всех нравоучений, которые приходилось выслушивать на протяжении 40 минут, внимание заострялось именно на пресловутом дифференцированном подходе. В школе много невыполнимых инструкций, и эта – о применении дифференцированного подхода – одна из самых неадекватных. Что получается-то в итоге? Всем на диктант выучить десять слов, а Ванятке три? Всем на контрольной работе сделать пять заданий, а ему одно? И то, только в том случае, если там встретятся те три слова, которые Ванятка осилил за три недели. Ерунда полнейшая. Ещё допустимо, пока вся эта дурь происходит во втором классе, а дальше что? А то, что к экзаменам в девятом классе все дружно подойдут дифференцированно: кто-то сможет все задания выполнить, а кто-то только 10 % от них. Останется только объяснить это проверяющим и чиновникам из министерства. Мол, не ребята глупые и материала не знают, а просто подход такой к ним был – дифференцированный. Так что, будьте любезны, оценочку-то хорошую поставить. Подход ведь!
Да, так вот, после таких бесед я несколько дней «обтекала», а потом поступила очень просто, следуя старому русскому правилу: не тронь кое-что, оно вонять не будет. Спрашивать Ванюшу на уроках я вообще перестала, только если уж он сам изъявлял горячее желание. Задавала как всем, но выполнял ли он домашнее задание, не интересовалась. Ставила то, что заслужил, а потом классная руководительница и Мошкина по очереди мои оценки замазывали и ставили те, которые считали нужными. Как писал Ярослав Гашек в своём бессмертном произведении, если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом. Плюс, моя совесть оставалась почти чистой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



