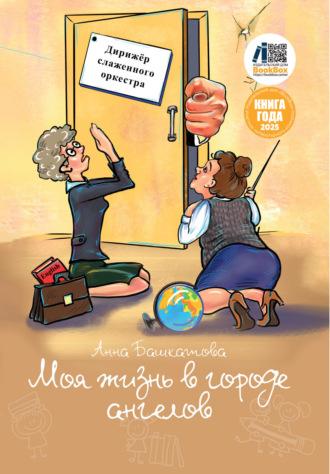
Полная версия
Моя жизнь в городе ангелов
Как видите, математика в данном вопросе сталкивается со здравым смыслом. Начальство, конечно, на стороне математических расчётов, учителя пытаются всё же руководствоваться здравым смыслом. Извечный конфликт интересов. Итак, по плану мы обязаны провести 68 уроков, а на деле хорошо, если 58 получится, и это включая контрольные работы. Любому ясно, что учебный материал придётся сокращать. И вот в этом скользком месте у меня и находила коса на камень. Очень уж мне, как правильной тёте, хотелось следовать математике, а не здравому смыслу. Три года мучений, истерик и непредсказуемых взрывов неминуемо привели бы меня на Бушмановку (наша местная психушка), если бы не Ира. Не преувеличиваю. Хотелось бы приукрасить себя, но если уж взялась писать правду, то взялась. Вопреки одному известному автору, правду далеко не всегда говорить легко и приятно.
Каждый раз, сталкиваясь с ситуацией «уменьшения объёма предлагаемых знаний», я с тихим, но постоянно возрастающим бешенством наблюдала, как Ирка пролистывала страницы учебника:
– Так, это я выкину, это опущу, в контрольной это не встречается, – ну и фиг с ним, перебьются.
Хотя донельзя довольная и умиротворённая Ирка ненавязчиво подталкивала меня к такому же решению, я изо всех сил сопротивлялась и с упорством, достойным лучшего применения, пыталась объять необъятное. При этом я трепала нервы себе, издевалась над детьми и доводила Ирку до приступов. Правда, смеха. Что-то сдвинулось в моей непутёвой голове, когда Ирка ткнула пальцем в учебник 4-го класса и спросила:
– Интересно, на кой чёрт авторы в 4-м классе предлагают подобную лексику, да ещё и отводят на её закрепление почти целый урок? Кому нужны эти слова? Даже нам они не пригодятся, что уж про детей говорить. Нет, даже если бы я и укладывалась в программу, я бы эту тему не взяла!
Я проследила за её пальцем. Эту тему я уже проходила со своим предыдущим 4-м классом, но мне и в голову не приходило взглянуть на неё с Иркиной точки зрения. И всё-таки я осмелилась и взглянула. Да, действительно, авторы учебника настойчиво предлагали 9–10-летним детям овладеть словами «травоядный», «плотоядный» и «всеядный». И в первый раз меня клюнуло: а, собственно, зачем? Ответ я смогла придумать только такой: если авторы вводят такую лексику, значит, она позарез будет нужна дальше, например в 5-м классе. И тут меня заело. Вернувшись домой, я обложилась Spotlight за 5-й, 6-й и 7-й классы. Потратив несколько вечеров, я убедилась, что называется, своими глазами: нигде до 7-го класса включительно эти слова не встречались. Может, следовало бы изучить и учебник 8-го класса? А смысл? На черта козе баян? Если даже и промелькнут эти слова в 8-м, 9-м классах, то кто же их вспомнит? Дурь. Между прочим, таких тем в учебниках 2–4-х классов оказалось немеряно.
Проведя такое исследование и поколебавшись ещё немного, я всё же решилась «изъять» из программы (по необходимости, естественно) одну из подобных чрезвычайно «нужных» тем. С болью в сердце, как говорится. И что? А ничего. Никому от этого хуже не стало:
ни мне, ни детям, а уж школьная программа тем более урона не понесла. А дальше всё пошло по накатанной, ведь главное – начать. Старая, мудрая истина. Это только в первый раз сложно. Вот так я и «деградировала», к своему счастью. И с тех пор спокойна как медведь в спячке, по крайней мере по этому поводу. А сколько нервных клеток могла бы сберечь и себе, и другим, если бы послушала Иру раньше… Остаётся лишь лицемерно утверждать, что опыт не бывает ненужным, даже отрицательный.
***
Апофеозом моей глупости и Иркиной мудрости я считаю историю с Турцией. Но начать придётся загодя, ибо у каждой истории есть своя предыстория.
В жизни каждого служащего бывают ситуации, когда приходится обращаться к врачу. И не хотел бы, да надо. Работодатели – думаю, никакого секрета я не раскрою, – неохотно идут навстречу желающим улучшить или хотя бы окончательно не угробить своё здоровье. Помнится, наша физичка, сломав ногу, несколько месяцев вела уроки по скайпу. Но не всем так «везёт». Вот и плетёшься на работу с температурой и без голоса. Вообще-то, иногда с коллегами можно договориться: сейчас тебя подменят, потом ты подменишь. На что угодно пойдёшь, лишь бы до начальства не дошло. Есть, есть варианты. Но только не для меня! Слово «больничный» для меня звучало как «Моя борьба» Адольфа Гитлера в России. Я, как невменяемая, ходила на работу и с флюсом, и с бронхитом, и с ангиной, и с порванным мениском. Все адекватные люди назовут это дурью несусветной (и будут правы), я называла это «чувством долга». Да, никому не нужным, но я-то как собой гордилась! Ну да бог с ним, с больничным, я не позволяла себе пропустить ни одного урока даже для того, чтобы сделать позарез необходимый анализ крови. Дожидалась каникул, откладывала визит к врачу на два, на три месяца…
Ирка меня нещадно ругала и безостановочно воспитывала. Уж в нашей-то ситуации так надрываться! Для изучения иностранного языка класс (если в нём больше 24 человек) делится на две группы, в каждой свой преподаватель. Надо уйти – обращаешься напрямую к напарнику, он совмещает обе группы, и все довольны, даже начальству докладывать не надо. Даже при условии, что одна группа «англичане», а другая «немцы», всё решается элементарно: «своим» даётся задание, а коллега присматривает, чтобы дети делали вид, что его выполняют, а не скакали по классу. Проще некуда. Но опять-таки только не для меня! Я не могла заставить себя пойти даже на это. Не потому, что не хотела терять деньги. (Иногда, если коллега сволочной, он требует, чтобы ему официально поставили «замену», а это оплачивается. Ему, естественно, не тебе.) И не потому, что не хотела обременять кого-либо дополнительными 15 хулиганами, прекрасно зная, какой это геморрой. А исключительно потому, то считала примерно так:
– А как же бедняжки детки без меня?
Отлично, как выяснялось позднее.
– Они же без меня умрут!
Если только от радости.
– Придёт какая-нибудь Нина, Зина, Кристина и всё сделает не так, загубит все мои начинания на корню! За один урок угробит многомесячную работу! (Ха-ха.) Детки же без меня не смогут, такой стресс, такой шок для несчастненьких!
Надо же было мне, дуре, портить детям праздник.
– Так, как я, никто не умеет!
А «так» и не надо, деткам вообще всё равно как, хоть никак.
Ну и всё примерно в таком ключе. Я буквально упивалась своей мнимой незаменимостью и в тот момент, когда муж зашёл в Интернете на сайт-купонатор и высмотрел там путёвки в Турцию.
Сказать, что путёвки стоили дешёво, – значит нагло солгать. Стремясь обозначить дешевизну чего-либо, мы обычно употребляем слово «копейки». В моём случае более уместно было бы слово «гроши», а может, и «грошики». Да, пусть конец ноября, не сезон, но зато пятизвёздочный отель, «всё включено», аквапарк (пусть в такое время года не работает, но есть же!), Средиземное море, внутренний бассейн… Ой, вспоминать – только душу травить. И цена… Упавшая с первоначальной в 25 (!) раз! Не в два с половиной, а в 25! Разделите 50 000 на 25, что получите? Приемлемо для любого, даже моего нищенского бюджета, уж за неделю-то отдыха…
Меня уговаривали все: муж, ребёнок, свёкр, свекровь, все остальные родственники и, безусловно, Ирка. Про аргументы семьи и рассказывать не буду, без лишних слов всё ясно, а Ирка сказала буквально следующее:
– Езжай и ни о чём не беспокойся. Я сама лично тебя подменю, даже ни перед кем кланяться не придётся. Уезжай, не раздумывая. О чём тут вообще думать? Такой случай, да что ты! На идиотку, вроде, всё-таки не похожа.
Оказалось, что похожа, да ещё как! Самое ласковое, что мне довелось услышать о себе и своих умственных способностях в ту неделю, было «ненормальная». И ради чего я отказалась от поездки? Ради кого? Ради начальства, которое вовсе не стесняется уезжать посреди учебного года в Чехию (подлечиться) или в Гармиш-Партенкирхен (на лыжах покататься)? Ради детей, которым вообще без разницы, английский у них или физкультура? Как не учили ничего, так и не начали. Им что Ира, что Кира, что Эльвира, что чёрт лысый придёт, главное, успеть домашку до начала урока скатать. Осознание моей глупости и одновременно опровержение мифа своей незаменимости настигло меня в конце ноября в виде 15 невыполненных домашних заданий (из 19) и 19 наглых, ухмыляющихся физиономий.
А вечером по скайпу мой муж и ребёнок демонстрировали мне своё умение рвать апельсины прямо с дерева.
Познание истины редко бывает безболезненным и приятным. Но познавать приходится. Думаю, я сумела бы и сама дойти до вывода «живи для себя, ты у себя одна». Будь спокойнее, в школе всем на тебя начхать. Береги СВОЮ жизнь, СВОИ нервы. К работе нужно и должно относиться ответственно, но и о себе забывать нельзя. Фанатизм никому ещё счастья не принёс. Простые истины? Банальные? Да. Но почему-то каждому человеку приходится их открывать для себя заново. Так было и так будет. Ничего не поделаешь. Для меня путь к познанию оказался очень горек, но с Ирой он оказался хотя бы в два раза короче.
Малюсеньким утешением в данной ситуации мне послужило лишь то, что в ту злосчастную неделю в нашей квартире ночью прорвало трубы. Выжимая ковры, проветривая комнаты и унижаясь перед соседями, я всё же чувствовала, что хотя бы эти вынужденные, но полезные дела чу-у-у-точку вознаграждают меня за мою тупость и непомерное самомнение.
***
Однако моё лирическое отступление затянулось, так что «вернёмся к нашим баранам», как говаривали в давние времена, не имея в виду, впрочем, ничего оскорбительного.
Немного осмелев, если данное выражение здесь уместно, Эльза расширила список своих причин уходов с уроков. Лена Аврорина, руководившая в то время третьеклассниками, однажды безмерно удивилась, увидев случайно в окно, как Эльза летящей походкой покинула школу через 15 минут после начала урока. Естественно, как и всегда, без последнего «прости». Лена, уж извините за выражение, «метнулась кабанчиком» к своим, успела разнять двоих хулиганов, которые колебались, не зная, на что решиться: разбить друг другу носы или стекло в книжном шкафу. В оставшиеся 15 минут Лена, глядя на учебники немецкого языка с вполне понятной ненавистью, занималась математикой. Заловив на одной из перемен Эльзу, Лена, страстно дыша и энергично жестикулируя, поинтересовалась, как так получилось, что дети остались без присмотра, немецкого и классного руководителя одновременно, на что моментально получила достойный ответ, скрытый под высокомерной гипсовой маской времён Цезаря: «Ну, мне же приехали антенну устанавливать! Не будут же рабочие ждать. А дети и подождать могут, бесплатно же в школе сидят!» Уж на что Ленка особа напористая, по-хорошему наглая и пробивная, но тут и она смогла лишь покраснеть, побледнеть, посереть и поперхнуться, тем более что Эльзины аргументы были (до сих пор не уразумею, странно это или нет) поддержаны начальством.
Аналогичная ситуация произошла со второклашками, когда Эльза сорвалась с середины урока хоронить собаку. Да, жалко животное, но в данном случае 20 минут, остававшиеся до перемены, для собаки уже ничего не решали, тем более что дома с усопшей находился бойфренд.
Замещать Эльзу на уроках тоже представляло собой одно сплошное удовольствие. Весь урок – и это было чрезвычайно увлекательно – превращался в квест. Постоянно приходилось разгадывать головоломку: что было задано классу на дом, на какой странице учебника прервался учебный процесс… Подменять коллег даже за деньги мало кому нравится, но все обычно идут на это без особого зубовного скрежета, так как неизвестно, когда тебе самому понадобится помощь. В бесконечных указаниях, которыми заваливают школы каждый месяц, ничего не говорится о каких-то особенных правилах замещения, но недаром мы, педагоги, обладаем педантичным и занудным подходом ко всем делам. Любому учителю ясно, что если ты оказался в роли заменяемого, то ты вручаешь замещающему клочок бумаги, в котором указываешь:
А) Что задавали к уроку на домашнее задание.
Б) Тему урока.
В) Номера упражнений, которые желательно бы выполнить в ходе урока.
Г) Что нужно задать на дом.
Любому, повторюсь, это ясно. Ну, почти любому. Эльза такими пустяками не заморачивалась: вот ещё, глупостями заниматься, бумагу без толку переводить. Разговоры с ней по этому поводу всегда проходили по одной и той же схеме:
– Что делать с твоим классом?
– Что хочешь.
– А что им было задано?
– Спросишь у какого-нибудь хорошего ученика.
Спрошу, кто спорит, ещё бы знать, кто из них там числится в хороших.
– А что пройти за урок нужно?
– Что хочешь.
– А на дом что задать?
– Всё равно, что хочешь.
Всё это напоминало картину старинной русской жизни «Барыня общается с дворней». Угадайте, кто барыня. В этом месте молодёжь поставила бы смайлик. Как говорила когда-то маленькая Яна, вылезая из-под ёлки где-нибудь 8 января: «Ни подарочка, ни говнаточка». И даже «спасибо» не полагается. Рылом не вышли.
Как-то раз в начале второй четверти все коллеги Эльзы оказались в довольно неприятной ситуации: Эльза попала в автомобильную аварию. Конечно, такого никому не пожелаешь: ехала поздним вечером, пошла на обгон фуры и врезалась в отбойник. Машина в хлам, ну да это хрен с ней. Сама Эльза покалечила правую руку, собирали по косточкам. Все остальные части тела, к счастью, не пострадали – так, лоб поцарапала. Обошлось. Весь ноябрь мы, не мяукая, вели за Эльзу её часы, тут и вопросов ни у кого не возникло. В декабре больничные Эльзе стали бесконечно продлять: то на недельку, то на пять дней. Мы бы, естественно, не мяукали и дальше, если бы Эльза не начала ежедневно мелькать в школе, занимаясь со своими учениками репетиторством. Покалеченная рука ей при этом нисколько не мешала, тем более что Эльза – левша. Недоумевая, мы аккуратно поинтересовались у нашего завуча младшей школы, долго ли нам ещё придётся впахивать как ломовым лошадям за человека, который каждый день приезжает с другого конца города, чтобы частным образом подзаработать немного деньжат.
Ну что сказать по этому поводу, зря мы это сделали, могли бы и догадаться, что на все наши робкие заикания ответят бумажным словом, о которое у нас в России разбиваются самые железобетонные аргументы: «У неё справка». Ладно, как скажете. И всё бы ничего, если бы не наличие в нашем районе платного детского развивающего центра «Кубик-рубик». Не знаю, как они там развивают математические и танцевальные способности детей, но с английским ситуация известна: в «Рубике» выполняют вместе с детьми (а чаще всего вместо детей) те самые домашние задания, которые им задаём мы в нашей богадельне. С недавних пор Эльза стала параллельно строить свою карьеру и в этом почтенном заведении (до её кандидатуры руководителям «Рубика» пришлось опуститься после того, как все остальные учителя нашей школы отказались от предложенной им чести. На безрыбье…). И в этом почтенном заведении она и появилась ровно через две недели после аварии. Вот после этой новости мы все хором и озверели. Значит, пусть школа оплачивает Эльзе больничный, а «Рубик» ещё и зарплатку подкидывает на бедность? Да и за репетиторство кое-что капает. Знамо дело, мелочь, а кошелёк чуточку греет. И правая забинтованная рука левше не помеха. Эльзе было на нас плевать, завучу младшей школы тоже – не ей же вкалывать приходилось. Стучать на какую-никакую, но коллегу директору мы не считали возможным. Ситуация стала просто невыносимой.
Худо-бедно, но в таком режиме нам удалось протянуть весь декабрь. И если моему терпению конец пришёл давным-давно, то под Новый год окончательно вышла из себя и Ирка. Но если она дошла только до степени нескрываемого возмущения, то я, вспомнив своё бурное эмоциональное прошлое, уже собралась идти на открытый скандал. Сложно предположить, чем дело бы кончилось, если бы обо всей этой истории не узнала завуч старшей школы, где за Эльзу также впахивали старшие коллеги. Не впутанная во все эти интриги, Башенная призвала Эльзу «к ноге» и высказалась кратко и жёстко: школа прекращает оплачивать Эльзе больничный (вроде как есть что-то на эту тему в трудовом кодексе). А если и после этого работа по двойным стандартам продолжится, то пусть-ка Эльза ещё и денежки вернёт, те, которые уже были выплачены по больничному.
В первый день третьей четверти Эльза стояла в строю, улыбаясь и прикладывая руку к козырьку. Правда, только если мимо проходило начальство. Когда мимо проходили мы, то всем (и нам, и окружающим) казалось, что мы обокрали её в тёмном углу и сейчас нас настигает заслуженное возмездие. Спасибо, как говорится, что не ударили.
Но токмо справедливости ради отмечу, что и Эльзе иногда приходилось нас замещать. Я как-то безболезненно через сие проскочила, а вот Ирка вляпалась по полной.
***
Раз в пять лет каждый учитель нашего достопочтенного заведения обязан повышать квалификацию. Поэтому наше начальство, блюдя репутацию школы, аккуратно и точно в срок отправляло нас туда, куда Макар телят не гонял. А мы в течение месяца-двух так же аккуратно впитывали разную чушь, излагая которую преподаватели курсов зарабатывают малую толику. (Что касается лично меня, то, пребывая на этих курсах, я почти закончила серию картин «Лис бежит по ромашковому полю». Звучит по-идиотски и нарисовано ручкой в блокноте, но идея! Супер!) Так вот, чаша сия и нас не миновала. Мы-то не удивились сей новости, а вот начальство очень удивилось тому общеизвестному факту, что нам не подходят ни утренние, ни вечерние курсы, потому что мы работаем в две смены. Но удивлялось оно (начальство, в смысле) недолго и отправило нас всё-таки на вечерние курсы, так что «полетела» у нас вторая смена. Ну, хочешь жить, умей вертеться. Кое-какие уроки мы переставили, кое-какие совсем отменили, а пару классов Ирке пришлось «отдать на растерзание» Эльзе. Немного утешало лишь то, что «растерзание» проходило только раз в неделю, а не два. Хоть что-то.
На каждый урок Ирка составляла подробный план: что, где, как и почём; только непонятно, для кого она так старалась, потому что Эльза им ни разу не воспользовалась. И всё бы ничего, никто бы не умер, если бы Эльзе не вздумалось вдруг начать выставлять оценки не только своей, но и Иркиной подгруппе.
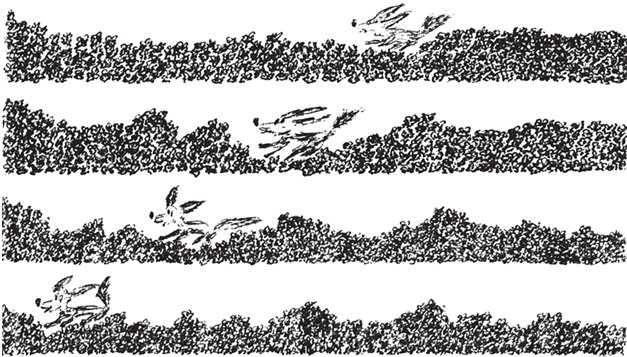
По уму, если уж тебе так приспичило наляпать оценок, ляпай себе, только не в журнал, а на листочек. Потом тот, кого ты замещаешь, сам решит, выставлять эти оценки или нет.
В первый раз, увидев в журнале колонку непонятно чего, Ирка корректно попросила Эльзу больше так не делать.
– Поставь на листочек, в дневник, если считаешь нужным, но в журнал не выставляй, я сама потом разберусь, – как всегда, спокойно и с улыбкой попросила Ирка.
Эльза, тоже мило улыбаясь, кивнула.
На следующей неделе журнал засверкал новой колонкой непонятных оценок. Видя, что Эльзу ничем не пробьёшь, Ирке пришлось обратиться к Мошкиной, нашему непосредственному руководству в младшей школе. «Встреча в верхах» прошла очень быстро и результативно. Ирка изложила суть конфликта, Мошкина покивала и попросила Эльзу объяснить свою позицию по этому вопросу. Та себя ждать не заставила:
– Я больше замещать Ирину Николаевну не буду. Если мне запрещено ставить официальные оценки детям, я больше к ним не пойду. Пусть с другой группой занимается кто хочет, меня это больше не касается.
Эльза ушла, Мошкина, не отличаясь быстротой реакции, продолжала благодарно кивать. Откивав, она повернулась к Иринке и произнесла сакраментальное:
– Ну… – и развела руками. Не тучи, а просто так.
Пришлось Ире свои группы оставлять на попечение классных руководителей, а потом усиленно изощряться, чтобы нагнать программу. Хорошо хоть, в этом компоненте ей нет равных. No comments. Лучше англичан в данном случае не выразиться.
Вся эта плохо пахнущая история заставляет задуматься о человеческих качествах, которыми хотя бы в малюсенькой степени должны обладать люди по отношению друг к другу в любом коллективе. А с другой стороны, что тут думать? И так всё на поверхности. И, кстати, не следует забывать, что наша богадельня всё-таки является образовательным учреждением, следовательно, не на первом (обхохочешься, но факт), но и не на последнем месте находится у нас результат обучения. Проще выражаясь – пресловутые оценки.
Для проверки оного (результата) у нас имеется Евгения Павловна. Собственно, Пална – завуч по воспитательной работе, но по не совсем понятной (точнее, совсем непонятной) причине также приглядывает и за нами, «иностранцами». Я называю причину «непонятной» потому, что официальной должности завуча по иностранным языкам у нас нет.
В течение года Пална исступлённо занимается своими прямыми обязанностями, как то: драит памятник неизвестному солдату, проверяет, соответствует ли одежда школьников некоему дресс-коду, который никому толком не известен, проводит всяческие развлекательные мероприятия и всё прочее в этом роде. Про нас дама вспоминает регулярно в конце каждой четверти, принимая отчёты об успеваемости, и нерегулярно, когда получает «втык» от директора на тему «совсем ваши, Евгения Павловна, иностранцы распустились. Ля-ля-ля…». Тогда Пална где-то с неделю посещает наши уроки и даёт детям проверочные работы, которые потом сама и проверяет месяца два-три в свободное от чистки фасада школы время.
Однажды подобный приступ контроля настиг наших третьеклассников, ну, и нас вместе с ними, само собой. Пална с энтузиазмом (уж чего-чего, а энтузиазма у неё на всю школу хватает) работу провела и даже проверила месяца за полтора. А потом нас пригласили на милую дружественную беседу. Тут придётся обратиться к сухим цифрам. У меня из тридцати работ одна написана на два, у Ирки две «пары» на шестьдесят работ, у Эльзы – 19 двоек из пятидесяти пяти. Дураку не объяснишь, умный сам всё поймёт. Даже не хочется вспоминать, не то что описывать эмоции, грызшие меня в ходе дружеской беседы: они оказались не из приятных, потому что нравоучений и поучений мы с Иркой получили не меньше, а гораздо больше Эльзы. Ну как же, мы-то матёрые волчары уже, а тут молодой специалист… Не включился полностью в учебный процесс, не вник в тонкости, растерялся, помощи не дождался… В общем и целом, стыдно должно быть вам с такими показателями, товарищи! Стыдно! Равняйтесь на молодёжь, которая рвётся к вершинам педагогического мастерства, невзирая на трудности и преграды (в нашем лице, надо полагать).
Такой же противной получилась и ситуация с рабочими программами. Поясню, как сумею. Рабочая программа – это совершенно кошмарная хрень (других слов не подобрать, если только матерные), в которой подробно по каждому классу расписывается, что вы должны пройти, когда вы это должны пройти, как вы это должны пройти и т. д. Требуется подробно описать содержание урока, тему, характеристику учебной деятельности, вид контроля, дату проведения урока и тому подобную, никому не нужную ересь. Особенно радует пункт «Результаты освоения программы». Я позволю себе задержаться на этом пункте, потому что моего здравого смысла ну никак не хватает, чтобы понять, каким образом все нижеперечисленные ожидаемые результаты связаны с предметом иностранный язык.
Вот что гласит рабочая программа дословно: «В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». Составителями программы вполне серьёзно планируется, что у выпускника начальной школы (перечислю не все положения, основные, а то окажусь в дурке намного раньше, чем хотелось бы):
А) Будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
Всё это, конечно, звучит гордо, только вот никак я не пойму, а до того, как дети начали изучать иностранный язык, они не осознавали свою национальную принадлежность? Не зная азов английского языка, дети не понимали, что они русские (допустим)? А кем они себя считали? Новозеландцами? Датчанами? Арабами? Гражданами мира? Родители, так уж получается в силу различных обстоятельств, не всегда очень пристально следят за воспитанием детей, но уж такую вещь, что «я – русский (армянин, белорус и т. п.)» в головы своих детей сызмальства вкладывают все без исключения. Разве нет?
Б) Будут сформированы гуманистические и демократические ценностные ориентации.
К стыду моему, я плохо представляю себе, что это за ориентации такие и каким путём они могут быть сформированы в рамках моего предмета. А отчитаться за сформированность этих загадочных ориентаций должна…
В) Будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
То органичное единство, то разнообразие… И вообще, где иностранный язык, а где природа? Какая связь? С каких это пор изучение языка во втором классе помогает узнать, что есть тундра, а есть тайга? Что лисы живут там-то, а белые медведи там-то? Это, скорее, задача предмета окружающий мир. А уж про религию и вовсе молчу: вопросы религии в учебнике, по которому мы занимаемся, не затрагиваются вплоть до девятого класса. Может, в десятом классе и разбирают детально разницу между правоверными католиками и протестантами, точно не скажу, но речь-то идёт о выпускниках начальной школы! Дети, что такое религия-то, не знают, а уж про такие тонкости, как христианство, католичество и всё прочее и слыхом не слыхивали. А английский алфавит и самые примитивные фразы, изучаемые во втором классе, типа Hello, им в освоении религиозных основ уж никак не помогут. Или я чего-то не понимаю.



