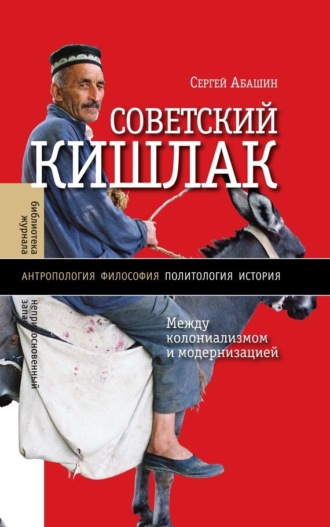
Полная версия
Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией
В этой связи интерес для меня представляет небольшая статья американского антрополога Аржуна Аппадураи «Производство локальности», который различает локальность как категорию или ценность и соседство как одну из социальных форм, в которой локальность может реализовываться106. Одно из определений рассматриваемого явления у него звучит так: «Сложное феноменологическое качество, формируемое серией взаимосвязей между ощущением социальной обязательности, интерактивными технологиями и относительностью контекста»107. Такой взгляд на локальность позволяет ему видеть, как она воображается и конструируется – и внутри этого самого соседства его членами, и усилиями внешних сил, находящихся за его пределами. Аппадураи предлагает смотреть на местные ритуалы, местные хозяйственные практики и, например, местные архитектурные техники, местные знания как на способы постоянного производства и воспроизводства сообщества. Ученый обращает внимание на то, что возникновение национальных государств, массовые миграции и появление электронных СМИ сопровождаются детерриторизацией и дестабилизацией соседств, приводят к переопределению локальности, к ее созданию в новых социальных формах. Источники и факторы воспроизводства локальности могут, таким образом, находиться вне данного конкретного места, они могут быть расположены в разных местах и перемещаться от одного к другому.
Соображения Аппадураи важны для меня в двух отношениях. Я хочу через изучение соседства Ошоба во времени показать, как в нем менялись практики локализации, как местное собщество создавалось и пересоздавалось в разные исторические эпохи. Ретроспективный взгляд усиливает понимание того, что нынешние социальные формы не даны извечно, а находятся в процессе постоянной дестабилизации и нормализации, разборки и сборки. Это означает, что я стремлюсь соединить в книге антропологический анализ с историческим108, другими словами, хочу проследить временнýю протяженность разных местных практик и представлений, надеюсь увидеть разные траектории исторической динамики – те, которые получили распространение, стали доминирующими, и те, которые угасли, потерпели поражение, маргинализировались. При этом я осознанно избегаю сугубого историзма, принятых членений на формации и стадии, в которых скрываются свои опасности телеологизма и предопределенности. В книге нет ни жесткой хронологической последовательности разделов, ни широко распространенного чуть ли не магического отношения к некоторым датам – таким, как 1917 или 1991 годы. Время в каждом очерке течет в своем направлении, со своей скоростью, со своими вехами, примеряясь к судьбам конкретных людей и к особым видам практик, которые оказываются в поле моего зрения.
Я также отдаю себе отчет в том, что моя собственная работа сама является одной из таких практик конструирования локальности, о которых пишет Аппадураи. То, какой я увидел и не увидел Ошобу (какие материалы собрал или не собрал), как написал и не написал о ней, уже содержит в себе некий окончательный образ, сколько бы я ни убеждал себя и читателя, что не стремился создавать такой образ. Ошоба, которая возникла в моих представлениях и затем в моей книге, начинает свою собственную жизнь параллельно с той Ошобой или с теми «Ошобами», которая/которые существует/существуют в представлениях самих ошобинцев. Эти образы неизбежно вступят во взаимодействие и даже конкуренцию, причем могу предположить, что моя версия окажется для многих предпочтительнее – хотя бы в силу того, что другие версии будут недоступны для ознакомления. Это неизбежный и трудноконтролируемый побочный эффект любого исследования, когда его результаты определяют восприятие и отношение к тому или иному явлению или реальности. В моих силах лишь понимать возможные последствия, предупреждать их и ожидать критики вместе с альтернативными выводами.
* * *Я хочу сказать несколько слов о технических проблемах, с которыми сталкиваюсь регулярно, когда пишу свои работы. Дело в том, что не существует общепринятого и непротиворечивого написания узбекских (и таджикских) имен, названий и терминов, которые записывались в арабской графике, а затем более ста лет бытовали в кириллическом виде. Точнее говоря, существует несколько противоречащих друг другу способов обозначения кириллицей арабских, персидских и тюркских слов. Это узбекская кириллица, которая содержит несколько дополнительных букв для передачи специфических звуков (свои буквы имеются и в таджикской кириллице). Это профессиональная востоковедческая кириллица, использующая дополнительные диакритические знаки для передачи особенностей арабской графики. Это русская кириллица, которая имеет свои законы транслитерации слов из других языков. Наличие нескольких систем написания осложняется неустоявшимися литературными нормами, а также множеством исторических и региональных/диалектных вариантов произношения и написания тех или иных слов. Привести все это многообразие к общему, логически обоснованному и понятному для обычного читателя знаменателю представляется совершенно невозможным. В настоящей книге я использую такие формы написания имен, названий и терминов, которые соответствуют правилам русской грамматики и сложившимся традициям их написания; в случае когда такой традиции нет, я стараюсь максимально приблизить слово к тому произношению, с которым мне довелось иметь дело.
Приведу единственный пример. В русскоязычных документах начиная с XIX века название кишлака Ошоба писалось как Ашаба, реже – Ашоба и даже Ушаба. В арабографических текстах, как любезно пояснил мне узбекский востоковед Бахтияр Бабаджанов, первая буква иногда была со знаком мадда (آشابه), что означает фонему «о», иногда без этого знака, что означает «а» (اشابه). Какое из написаний исторически наиболее правильное, сказать сложно. По мнению Бабаджанова, слово «Ашаба», скорее всего, восходит к какому-то согдийскому/восточноиранскому или среднеиранскому термину (это касается значительного числа ферганских топонимов), а в этих языках не было открытого гласного «о». Так или не так, но в настоящий момент – возможно, под влиянием западноиранского/таджикского языка – слово имеет форму «Ошоба», в которой употребляется в официальных документах. Именно эту форму я выбрал в качестве основной в своем тексте, оставив в неприкосновенности только цитаты.
С такими дилеммами я сталкивался очень часто, и каждый раз приходилось делать выбор, учитывая всю совокупность разнообразных факторов. Уточню лишь, что я старался ориентироваться на русскоязычную аудиторию и традицию (в частности, в написании имен и фамилий с добавлением «-ов», даже когда речь идет о XIX веке). В некоторых случаях я даю местный вариант написания, используя узбекскую кириллицу.
* * *Я признателен своим многочисленным коллегам по всему миру, в общении, в том числе и в спорах, с которыми я формировал идею своей книги. Я благодарен Анне Афанасьевой, Бахтияру Бабаджанову, Софие Касымовой, Баходиру Сидикову и Сергею Соколовскому за то, что они согласились прочитать рукопись (или ее части) и высказать свои замечания. Я благодарен людям, которые на разных этапах работы над книгой помогали мне: Аббасхану Асадуллаеву, Адхаму Аширову, Валентину Бушкову, Валерию Германову, Светлане Джексон (Svetlana Jacquesson), Андрею Захарову, Иномджану Мамадалиеву, Акбару Тагаеву, Томохико Уяме (Tomohiko Uyama), Мухиддину Файзуллаеву, Ринату Шигабдинову. Хочу выразить также благодарность жителям кишлака Ошоба и сотрудникам архивов за содействие и благожелательное отношение ко мне и моей работе. Я весьма признателен Умиду Бобоматову, который сам является выходцем из Ошобы, за то, что он взял на себя труд прочитать рукопись и дать свои комментарии и замечания. Особую признательность я высказываю своей супруге Анне Абашиной за помощь в литературной правке текста.
Я благодарен Фонду Веннер-Грен (The Wenner-Gren Foundation), благодаря финансовой поддержке которого в трудные годы я смог осуществить свои полевые исследования. Я благодарен Центру славянских исследований (The Slavic Research Center) Университета Хоккайдо, который создал идеальные условия для завершения моего исследования. Я благодарен Российскому гуманитарному научному фонду и Российскому фонду фундаментальных исследований, Фонду Гарри Франка Гуггенхейма (The Harry Frank Guggenheim Foundation), Фонду Макартуров (The MacArthur Foundation), Фонду Сороса (The Open Society Foundations/Soros Foundation), руководству и сотрудникам Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Института востоковедения РАН, Института истории АН Узбекистана, Французского института изучения Центральной Азии (Institut français d’Études sur l’Asie centrale), Института социальной антропологии им. Макса Планка (The Max Planck Institute for Social Anthropology) и участникам проекта «От колхоза к джамаату: трансформация сельских исламских общин в бывшем СССР: межрегиональное сравнительное исследование, 1960—2010» Фонда Фольксвагена (The Volkswagen Foundation), которые на разных этапах поддерживали продолжение и развитие моего проекта, а также Американскому совету учебных сообществ (The American Council of Learned Societies) за поддержку работы над книгой на заключительном этапе. Наконец, я благодарен издательству «Новое литературное обозрение» и Илье Калинину за согласие прочитать мою рукопись и опубликовать ее в виде книги.
Очерк первый
ТРИ ВЗГЛЯДА НА ЗАВОЕВАНИЕ109
Один из наиболее активных представителей постколониальных исследований, Гиян Пракаш, анализируя индийскую историографию, выделил несколько этапов изучения региона и несколько разных типов научного дискурса, связанных с осмыслением его истории и культуры110.
Первым из них был ориентализм111. Он являлся «европейским предприятием», создававшимся европейцами для европейской аудитории. Ориенталисты, пишет Пракаш, рисовали в своем воображении Индию как сущность, отдельную от Европы. Это был взгляд извне, который конструировал Индию в качестве другого, полностью противоположного западному миру112. Такое видение Индии было эссенциалистским, то есть придавало изучаемому и конструируемому в процессе изучения объекту целостный, гомогенный, неизменный характер, наделяло его постоянными характеристиками, отличными от характеристик Запада (если Запад – рациональный, то Индия – иррациональная, если Запад материалистичен, то Индия духовна, если Европа находится в движении, то Индия спит, и так далее). Это было не просто знание, но знание, которое оправдывало имперское доминирование Европы над Индией, представляло его неизбежностью и закономерностью, вытекающими из сущностных черт индийского общества. Пракаш оговаривается, что ориентализм не оставался одним и тем же на протяжении десятилетий, он накапливал информацию, а представления ориенталистов об Индии уточнялись и корректировались, но прежняя, созданная ими линия размежевания между Индией и Европой и подчиненное положение индийской культуры по отношению к западной все так же оставались основными особенностями такого рода научных рассуждений.
С критикой ориентализма выступила национальная научная историография, возникшая в самой Индии113. Соглашаясь, как полагает Пракаш, с тем же эссенциалистским видением Запада и Индии как отдельных друг от друга и самостоятельных сущностей, сторонники этого течения взамен пассивного, инертного образа Индии, который создавался ориенталистами, предложили свой образ страны – активной и самостоятельной. Индия в их работах была равной Европе, а не подчиненной ей. Используя привнесенные из Европы концепции, классификации и понятия, а также, как заметил Пракаш, ссылки на европейских ориенталистов, индийские националисты поставили под сомнение авторитет и право европейцев говорить об Индии. Внутренние противоречия и даже конфликты внутри национальной историографии, когда одни делали акцент на традиции, а другие – на модернизации, не мешали всем сторонникам этого направления говорить об индийском обществе как о единой, органической, укорененной в истории нации, которая была главным и единственным объектом их интереса, внимания, заботы и защиты. И в этом Пракаш видит «элементы ориенталистского канона», который был усвоен националистами, получившими европейское образование.
После обретения Индией независимости в 1947 году возникло несколько новых течений в изучении региона. Западные антропологи и специалисты по региональным исследованиям нарисовали образ традиционной Индии со своей особой культурой114. Они смотрели на мир с точки зрения культурного многообразия, а не дихотомии Запад/Восток, но в этом подходе, как отмечает Пракаш, сохранялись старые эссенциалистские основания, которые наделяли индийское общество предписанными и заданными свойствами. Марксисты и социальные историки кембриджской школы критиковали и ориенталистскую историографию, и национальную, рассматривая их как идеологические и устаревшие проекты115. Вместо истории борьбы Запада с Востоком и истории подчинения Западом Востока они попытались написать новую историю сложного и нелинейного взаимодействия классов, социальных и региональных групп. Однако Пракаш критикует оба эти течения за то, что в их исследованиях Индия по-прежнему сохраняла статус маргинальной или периферийной части западного мира или глобального (то есть, опять же, западного) модернизма, к канонам и идеалам которого она должна стремиться.
Анализ индийской историографии Пракаш завершает ссылками на работы последователей школы изучения подчиненных, к числу которых он сам себя относит116. В их трудах, по его мнению, взгляд на индийское общество освобождается от тех или иных гегемонистских категорий (Восток, нация, класс, модернизация), навязанных ориенталистским и национальным нарративами, что позволяет увидеть множество изменяющихся позиций – сложное переплетение лингвистических, экономических, социальных и культурных взаимодействий и отношений власти. Индия перестает быть особой и неизменной на протяжении десятилетий и веков сущностью, превращаясь в пространство многообразных социальных и культурных столкновений и пересечений.
Конечно, было бы наивно на основании аргументов Пракаша делать вывод, что школа изучения подчиненных является венцом индийского и вообще любого историографического процесса, исследующего колониализм. Категориальный аппарат, созданный последователями этой школы, сам не всегда свободен от гегемонизма, особенно в тех случаях, когда они начинают искать «подлинно индийские», свободные от западного влияния социальные и интеллектуальные сферы. Я, наверное, присоединился бы к тем, кто считает, что такого рода подчиненные могут стать лишь новой версией экзотического другого, воспроизводя в новой упаковке эссенциализм других понятий (община, каста, бенгальскость). Заслуга представителей этой школы не в том, что они открыли «настоящую», «истинную» историю колониальной Индии, противопоставив ее «лживой», «выдуманной» истории своих предшественников и оппонентов. Главное, на мой взгляд, то, что они указали на существование множества разнообразных, ранее недооцененных перспектив и точек зрения, с которых можно смотреть на историю.
Предложенный Пракашем взгляд на историографию и историю Индии полезен, я думаю, для изучения колониальной истории и историографии Средней Азии – при всех отличиях между этими регионами117. Обсуждение, например, вопроса о том, что имело место в XIX веке – завоевание Россией Средней Азии или ее добровольное присоединение, зашло в тупик, поскольку сторонники двух основных позиций – национальной и имперской – не могут ни переубедить друг друга, ни выстроить какого-либо диалога. Методологический же ракурс, который предлагает Пракаш, включает в себя критику обеих этих гегемонистских категорий и является попыткой показать иные способы описания прошлого, увидеть многообразие нарративов, противоречия между ними и внутри каждого из них, используемые этими нарративами приемы убеждения, преувеличения, подтасовки, умолчания, эмоциональную составляющую, с помощью которых конструируются различные версии произошедшего. Такой подход позволяет прочитать разные варианты донациональной истории и альтернативные региональные истории, услышать голоса женщин, религиозных деятелей, тех или иных социальных групп как особые, идущие вразрез с колониально-ориенталистской и национальной риторикой.
В первом очерке книги, который будет посвящен истории завоевания Ошобы и ее включения в состав Российской империи, я намеренно отказался от написания собственной версии этой истории и анализирую то, как по-разному она видится разными акторами и толкователями. Я предлагаю вниманию читателя три рассказа об одних и тех же событиях в Ошобе в 1875 году, когда Ферганская долина была оккупирована российской армией. Один – это донесения российских военных, участвовавших в событиях того времени, и затем интерпретация этих донесений в трудах имперских военных историков. Второй – описание, которое давали тем же фактам местные интеллектуальные лидеры, и новая оценка произошедшего в постсоветской национальной историографии Узбекистана. Третий рассказ был услышан и записан мной от руки в Ошобе в 1995 году (а в 2010 году дополнен аудиозаписями). Меня в данном случае интересует, как в каждой из этих версий описывается ситуация завоевания, подчинения, сопротивления и противостояния, с каких точек зрения рассматриваются события, какие образы и метафоры используются, какие модели объяснения предлагаются, какие концепции и представления стоят за этими моделями, как происходят процессы вспоминания и забывания, как факты конструируются и встраиваются в изначально заданную логику рассказа.
События осени 1875 года
Прежде чем говорить о нарративах, я должен изложить последовательность событий, чтобы можно было понять, о чем вообще идет речь118.
Итак, летом 1875 года в Кокандском ханстве, которое с момента подписания российско-кокандских договоров в 1868 и 1872 годах фактически находилось под протекторатом Российской империи, влиятельные представители высшей кокандской элиты потребовали низвержения правителя – Худоярхана. Оппозиционное движение приняло такой размах, что в июле последний вынужден был бежать из Коканда в сопровождении российских казаков. На престол взошел его сын Насреддинхан. Смена власти обеспокоила туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Новая кокандская верхушка могла объединиться с бухарским эмиром и правителем Йеттишара Якуббеком119, и эта коалиция, при поддержке англичан, составила бы – как опасался Кауфман – мощную силу, направленную против российского присутствия в регионе.
Под предлогом защиты от действий кокандцев, которые в районе реки Ахангаран120 совершили ряд нападений на российские посты и центр Кураминского уезда – Аблык, военные части в августе стремительно вторглись в Ферганскую долину со стороны города Ходжент121. 22 августа в тяжелом бою была разгромлена большая кокандская военная группировка около крепости Махрам, 29 августа российские солдаты захватили столицу – Коканд, а в течение сентября заняли остальные крупные города Ферганы. Несмотря на продолжавшиеся бои, 22 сентября 1875 года Насреддинхан подписал с Кауфманом новый договор, восстанавливающий российский протекторат над ханством на еще более жестких условиях.
В частности, по соглашению предусматривалась передача всей территории на правобережье Сырдарьи и Нарына – бывшее Наманганское бекство – в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Весь восточный склон Кураминского хребта (бывшее Бабадарханское бекство), и в том числе кишлак Ошоба, был включен в состав новой административной единицы – Наманганского отдела (с центром в городе Намангане и дополнительной военной базой в Чусте). Отдел должен был служить своеобразным буфером между Кокандским ханством и основной территорией генерал-губернаторства. Войска, которые здесь располагались, могли контролировать основные перевалы и пути из Ферганы на север и запад, легко появляться в любой части долины, чтобы подавить возможное сопротивление. В то же время естественная граница в виде рек Сырдарья и Нарын затрудняла, как считали тогда российские военные, плохо оснащенным и неорганизованным кокандским отрядам неожиданные нападения на русских. Во главе отдела был поставлен М.Д. Скобелев.
Надежда легко взять под контроль ситуацию в Кокандском ханстве, однако, не оправдалась. 10 октября Насреддинхан тоже вынужден был, вслед за отцом, бежать из Коканда, а новым правителем среди части повстанцев был провозглашен некто Пулатхан. Таким образом, наступил кульминационный момент в конфликте, когда одновременно происходила борьба за власть между различными фракциями кокандского общества и борьба с завоевателями.
Кокандцы небольшими группами перебирались на территорию Наманганского отдела и спокойно перемещались там, находя поддержку среди местных жителей, которые чаще всего даже не понимали, что вдруг оказались подданными России. Одним из наиболее беспокойных районов новообразованного Наманганского отдела была его самая западная часть – горы и предгорья Кураминского хребта, вдоль которого и через который проходили важные пути из Ходжента и Ташкента в Наманган, по ним шли поставки продовольствия и военного снаряжения. Это была территория степей и гор, где не было мест постоянной дислокации российских военных, поэтому кокандские отряды действовали здесь свободно и угрожали затруднить сообщение между основными военными базами. Российские отряды время от времени появлялись на этой территории, вели боевые действия с противником, преследовали его, но ситуация оставалась сложной, поскольку кокандцы нападали внезапно, маленькими группами и быстро рассыпались, исчезая из поля зрения менее мобильных регулярных войск. Малодоступные кишлаки в предгорьях и горах Курамы предоставляли повстанцам запасы и укрытие, а российские военные не решались вести там боевые действия без артиллерии и обозов с провиантом и снаряжением…
Перехожу к деталям. Речь о том, как развивалась ситуация в октябре—ноябре в западной части Наманганского отдела и что происходило в Ошобе и соседних селениях.
Начну с одного донесения о передвижении небольшого отряда из двадцати пяти солдат во главе с майором Ястржемским из Ангренской долины в Наманган, которое весьма художественно передает настроения, существовавшие в тот момент у российских военных. 11 октября экспедиция двинулась из ахангаранской базы и122,
перевалив горный кряж [из долины Ахангарана через Кураминский хребет в Фергану], имела ночлег в небольшой отдельной Курганче123 около кишлака Мулла-Мир [Мулламир]; несмотря на вечер и пост Уразу124, аксакал [старшина, старейшина] деревеньки Мулла-Мир явился, вызванный нашими джигитами, и охотно, за деньги, доставил нам все необходимое. Такое поведение Мулла-Мирского аксакала я объясняю близостью этой деревни к нашей границе и незначительностью населения. На другой день мы проследовали кишлак Бабадархан <…> Бабадарханцы были положительно удивлены нашим внезапным появлением и отнеслись к нашему приходу как-то недоумевая; мы не слыхали ругательных слов и все встреченные жители кишлака старались скрыться или в ворота, или в переулок, а оставшиеся на улице, пугливо прижимаясь к стенкам сакель [глинобитный дом], недоумевая, провожали нас глазами.
Не то было в Шайдане; жители этой большой горной деревни, предуведомленные бабадарханцами, встретили нас иначе; два аксакала босиком ожидали нас перед кишлаком и проводили нас через всю деревню; в середине деревни внутри базара, они радушно предлагали нам ночлег в большой чайхане [общественная чайная], убранной чистыми кошмами [войлочные ковры], но майор Ястржемский отклонил их предложение и категорически объявил им, что будет ночевать с отрядом в поле, около кишлака, и потребовал, чтобы туда была проведена вода и доставлены за деньги дрова, клевер, ячмень и проч., все это было исполнено буквально через два часа125. Такая торопливость в исполнении заставила нас отнестись крайне подозрительно как к аксакалам, так и вообще к жителям деревни Шайдан; тут уже не замечалось недоумение, а скорее проглядывало нечто сознательное, и предупредительность аксакалов давала повод подозревать, что вся деревня Шайдан, узнав о нашем движении и численности, замышляла попытаться ночью врасплох напасть и уничтожить нас.
Впрочем, сам Кауфман, читая такого рода донесения, был настроен по отношению к ним критически и более оптимистично оценивал положение дел. 16 октября он отправился из Намангана в Ходжент, тогда же в селении Самгар, недалеко от Ходжента, был выставлен летучий отряд под командованием полковника Пичугина для поддержки группы, в которой находился генерал-губернатор, в случае нападения на нее126. 19 октября Кауфман во время остановки в селении Камыш-курган писал в письме Скобелеву127:
Во время настоящего моего следования от Чуста к Камыш-Кургану, жители попутных кишлаков, за исключением небольшого кишлака Ашлык [Аштлик] (на переходе между Пунганом и Камыш-Курганом), были большею частью на местах и выходили ко мне навстречу с достарханами128. По рассказам и разным сведениям, жители этих кишлаков замешаны в грабежах и нападениях на наших джигитов <…> Но нельзя не признать, что все эти грабежи и разбои произведены ими по внушению и подстрекательству вождей движения в народе, частью из жителей правого берега Дарьи [Сырдарья], преимущественно из кипчаков129, частью же разбойничьими партиями с левого берега реки.




