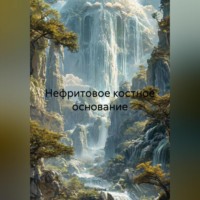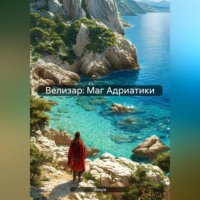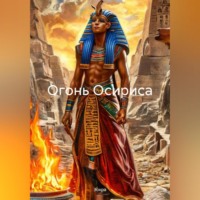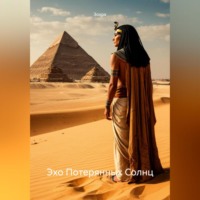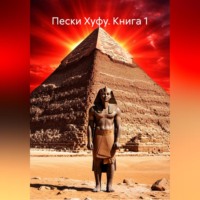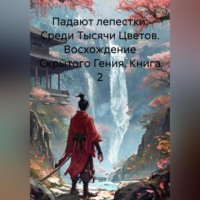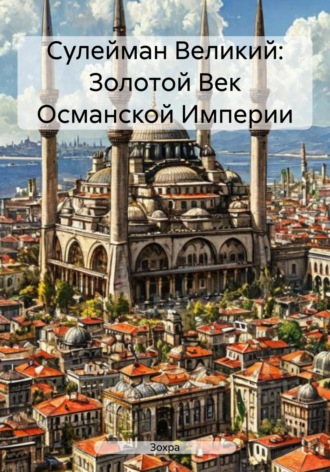
Полная версия
Сулейман Великий: Золотой Век Османской Империи
Сулейман слушал внимательно. Его лицо было спокойным, но глаза горели внутренней решимостью. Он понимал, что любые колебания сейчас будут восприняты как слабость и могут спровоцировать новые мятежи в других частях обширной империи. Он должен был действовать быстро и беспощадно, чтобы показать, что власть нового Султана не менее крепка, чем власть его отца.
"Этот человек – мятежник, который поднял руку на законную власть, дарованную мне Всевышним," – твердо произнес Сулейман, прерывая робкие предложения. "Он предал доверие, оказанное ему моим покойным отцом. Такое не может остаться безнаказанным."
Он обратился к Пири Мехмеду Паше: "Великий Визирь, соберите армию. Немедленно. Лучшие части, самые верные воины. Назначьте командующим самого способного из наших пашей."
Выбор пал на Ферхада Пашу, зятя покойного Султана Селима и опытного военачальника. Сулейман дал ему четкие инструкции: не вступать в долгие переговоры, разгромить силы мятежника и восстановить полный контроль над провинцией. Милосердие могло быть проявлено к тем, кто был принужден присоединиться к Газали, но сам зачинщик должен был понести заслуженное наказание.
Ибрагим, стоявший рядом с троном, наблюдал за Султаном с гордостью. Это был Шехзаде, которого он знал, – решительный, справедливый, не боящийся брать на себя ответственность. Он видел, как тяжел груз власти, но Сулейман нес его с достоинством.
Османская армия была собрана с поразительной скоростью. Воины, получившие щедрый *джюлюс бахшиши* и услышавшие о намерениях Султана восстановить справедливость, были полны энтузиазма. Поход в Сирию был стремительным. Войска Ферхада Паши столкнулись с армией Газали близ Дамаска. Несмотря на отчаянное сопротивление мятежников, османская армия, закаленная в боях и ведомая умелым полководцем, одержала убедительную победу. Джамберди Газали был убит в бою, его мятеж был подавлен, а его сторонники рассеяны.
Весть о победе в Сирии достигла Стамбула через несколько недель. Реакция была повсеместной – облегчение среди лояльных чиновников, страх у потенциальных мятежников, уважение у простого народа. Новый Султан не только говорил о справедливости и законе, но и решительно действовал, чтобы их утвердить. Он показал, что его молодость не означает слабости, а его спокойствие не есть нерешительность.
Подавив мятеж Джамберди Газали, Сулейман продемонстрировал всем – внутри империи и за ее пределами – что на троне Османской державы воссел достойный наследник, готовый защищать свое право силой и утверждать свою власть справедливостью. Он был не только Львом, взошедшим на вершину, но и Владыкой, чье первое слово было о Законе. Эра Сулеймана Кануни началась с утверждения порядка и демонстрации силы.
Глава 5: Рождение Воина. Белград
Утвердив свою власть в столице и подавив первый мятеж, Султан Сулейман понимал: для того чтобы его признали не только законным наследником, но и достойным продолжателем дела своих великих предков, ему нужна победа. Громкая, неоспоримая победа, которая заставит дрожать врагов империи и укрепит его авторитет среди собственной армии и народа. Меч его отца, Султана Селима, никогда не лежал в ножнах без дела, и Сулейман знал, что традиция династии требует от него того же.
Взор Султана обратился на Запад. Там, на границе с Венгерским королевством, словно заноза, сияла крепость Белград (по-турецки – Нандорфехервар, "Белый замок"). Расположенная на стратегически важном месте, у слияния рек Савы и Дуная, она была ключом к Центральной Европе, воротами на Балканы. Великий Мехмед Завоеватель, взявший Константинополь, не смог покорить Белград – крепость устояла перед его штурмами. Этот факт оставался болезненным напоминанием для османской гордости. Теперь, почти семьдесят лет спустя, настало время исправить это.
Решение о походе на Белград было принято на Диване. Сулейман лично председательствовал на заседании, внимательно слушая мнения визирей и военачальников. Подготовка началась немедленно и с имперским размахом. По всей империи были разосланы приказы о сборе войск, провианта, осадных орудий. Корабли в гавани Золотого Рога готовились к плаванию вверх по Дунаю, чтобы обеспечить поддержку и логистику.
Весной 1521 года огромная армия начала собираться у стен Стамбула. Это было поразительное зрелище – воплощение мощи Османской державы. Тысячи воинов стекались из Анатолии, Балкан, Сирии, Египта. Янычары – элитная пехота Султана, его личная гвардия, дисциплинированная, хорошо вооруженная и фанатично преданная своему повелителю. Сипахи – конница, дворяне империи, чья доблесть в бою была легендарной. Азабы, акынджи, артиллеристы, инженеры, саперы, слуги, погонщики верблюдов – все составляли этот живой, движущийся организм, способный сокрушить целые королевства.
Сулейман, облаченный в скромный, но качественный походный кафтан, лично инспектировал войска. Он объезжал ряды, останавливался, беседовал с агами и простыми воинами, поднимая их дух. Его присутствие, его спокойная уверенность внушали уважение. Он был молод, но уже ощущался как истинный лидер.
Султан не остался в столице, предоставив командование пашам. Он сам возглавил армию, следуя традиции своих предков-завоевателей. Рядом с ним, как всегда, находился Ибрагим. Он еще не занимал высших военных постов, но его место было рядом с Султаном, в его шатре, где разрабатывались планы и принимались ключевые решения. Ибрагим, блестяще знавший несколько языков и обладавший острым аналитическим умом, был бесценным советником и доверенным лицом.
Поход на Белград был долгим и трудным. Армия двигалась через земли Балкан, оставляя за собой вереницы обозов и поднимая столбы пыли. Местные жители, привыкшие к османскому владычеству, встречали армию с покорностью, обеспечивая провиантом и проводниками. Но чем ближе они подходили к границе с Венгрией, тем напряженнее становилась обстановка.
В начале лета 1521 года османская армия подошла к Белграду. Вид крепости был внушительным. Высокие каменные стены, мощные башни, глубокие рвы – все говорило о том, что взять ее будет непросто. Гарнизон, хоть и не слишком многочисленный, состоял из храбрых воинов, готовых стоять насмерть. Защитники знали, что за их спиной – Венгрия, а падение Белграда откроет врагу прямую дорогу в самое сердце королевства.
Сулейман развернул свою армию, полностью блокировав крепость с суши. Флотилия, прибывшая по Дунаю, перерезала подвоз припасов по реке. Началась осада – изматывающая и жестокая борьба воли, инженерии и храбрости.
Османские инженеры приступили к рытью траншей и подкопов. Артиллеристы устанавливали пушки – грозное оружие, в применении которого османы достигли большого мастерства. Гигантские бомбарды, способные метать каменные ядра весом в сотни килограмм, были направлены на самые уязвимые участки стен.
Гул пушек стал постоянным фоном осады. Каждое ядро, попадавшее в стены, сотрясало землю. Защитники отчаянно сопротивлялись, чиня повреждения, совершая вылазки. Несколько раз османские войска шли на штурм, неся тяжелые потери под градом стрел, камней и кипящей смолы. Султан Сулейман лично наблюдал за ходом штурмов, иногда даже появляясь на опасных участках, чтобы подбодрить своих воинов. Он делил с ними тяготы походной жизни, ел ту же пищу, спал в простом шатре. Этот пример воодушевлял армию.
Осада длилась несколько недель под палящим летним солнцем. Защитники Белграда проявляли чудеса стойкости, но силы были неравны. Мощность османской артиллерии постепенно делала свое дело. В стенах появлялись бреши, которые становились все шире, несмотря на все усилия по их заделыванию. Запасы продовольствия и боеприпасов у осажденных подходили к концу. Надежды на помощь извне таяли с каждым днем – Венгерское королевство, раздираемое внутренними противоречиями, не смогло собрать силы для деблокады.
Наконец, после особенно мощного артиллерийского обстрела, в одной из стен образовалась достаточно большая брешь. Сулейман отдал приказ о решающем штурме. Волна за волной османские воины бросались на прорыв, встречая отчаянное, но уже безнадежное сопротивление. Битва шла за каждый метр, за каждый камень стены.
К вечеру, изможденные, обескровленные, но не сломленные, остатки гарнизона Белграда поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. После переговоров, защитники согласились сдать крепость на почетных условиях. Сулейман, демонстрируя милосердие победителя, разрешил выжившим покинуть Белград, забрав личное имущество.
29 августа 1521 года, в день, который навсегда вошел в историю, Султан Сулейман во главе своих войск торжественно вступил в покоренную крепость. Над стенами Белграда взвилось знамя Османской династии. Молва о падении "Белого замка" мгновенно разнеслась по Европе, вызвав ужас и трепет. Султан, которого на Западе еще недавно знали лишь как наследника грозного Селима, теперь сам стал грозной силой.
Взятие Белграда стало первым великим триумфом Сулеймана. Он не только добился стратегически важной победы, открыв для империи путь в Центральную Европу, но и доказал себе, своей армии и всему миру, что он – достойный сын своего отца, способный полководец и решительный правитель. Он пришел в Манису как Шехзаде, прибыл в Стамбул как Султан, а вернулся из Белграда как Воин и Завоеватель. Это был первый шаг на пути к тому, чтобы стать не просто Султаном, но Сулейманом Великим. Эхо его победы разнеслось далеко за пределы Балкан, предвещая грядущие завоевания и славу.
Глава 6: Остров Рыцарей. Родос
Победа под Белградом утвердила за Султаном Сулейманом репутацию достойного полководца на суше. Он открыл двери в Центральную Европу, но оставалась еще одна заноза, которая десятилетиями терзала Османскую империю, – остров Родос. Расположенный у юго-западного побережья Анатолии, этот остров был оплотом Ордена Госпитальеров Святого Иоанна, известного как Рыцари Родоса.
Эти рыцари, остатки крестоносных орденов, были не просто монахами-воинами. Они были опытными мореходами и отчаянными пиратами, чьи галеры безжалостно нападали на османские торговые суда и корабли, перевозившие паломников в священные города Аравии. Родос был стратегически важным пунктом, контролировавшим морские пути в Восточном Средиземноморье, своего рода пробкой, мешавшей полному господству османов на море. Султан Мехмед Завоеватель пытался взять его в 1480 году, но потерпел неудачу. Этот провал оставался единственным значительным пятном на его блестящей военной карьере и вызовом для его потомков.
Сулейман, теперь уже полноправный Владыка, видел в Родосе не только военную необходимость, но и возможность превзойти деяния своего великого прадеда. Взятие острова стало бы демонстрацией османской мощи не только на суше, но и на море, символом завершения господства крестоносцев в Восточном Средиземноморье.
Подготовка к походу на Родос превзошла даже приготовления к Белграду. Это была комбинированная операция, требующая как сухопутной армии, так и огромного флота. По всем верфям империи – от Стамбула и Галлиполи до Египта – строились и снаряжались сотни галер, транспортных судов, снабженцев. Армия собиралась вновь, еще более многочисленная, чем в прошлом году. К опытным янычарам и сипахам присоединились войска из Египта, Сирии и других новых владений.
Летом 1522 года колоссальный флот, состоящий из более чем трехсот кораблей, вышел из гавани Золотого Рога. В его сопровождении по суше двигалась армия, насчитывающая, по разным оценкам, до ста тысяч человек. Это было зрелище, от которого захватывало дух, – море, усеянное парусами и веслами, берег, по которому двигалась нескончаемая река людей и лошадей.
Сулейман вновь лично возглавил поход. Он сел на флагманскую галеру, желая быть в сердце событий, как и подобает Султану-воину. Рядом с ним на корабле находился Ибрагим, теперь уже Паша, чье влияние и близость к Султану росли с каждым днем. Путешествие по Эгейскому морю заняло несколько дней, и вид острова, поднимающегося из синевы вод, предвещал нелегкую битву.
Остров Родос был прекрасно укреплен. Рыцари, предвидя нападение, укрепили стены столицы, названной также Родосом, подготовили запасы и пополнили гарнизон. Во главе Ордена стоял Великий Магистр Филипп Вилье де л'Иль-Адам – старый, но энергичный и решительный воин. Гарнизон состоял из нескольких сотен рыцарей Ордена и около пяти-шести тысяч наемников и ополченцев. Силы были неравны, но защитники рассчитывали на прочность своих укреплений и свою непоколебимую храбрость.
В конце июля 1522 года османская армия высадилась на остров и начала развертывание вокруг города Родос. Началась осада, которая продлится почти полгода и станет одной из самых кровопролитных и изматывающих в истории правления Сулеймана.
Османы приступили к традиционной тактике: окружение, установка артиллерии, рытье траншей для подхода к стенам. Но здесь им противостояли не просто стены, а многослойная система бастионов, рвов и контрэскарпов, построенная с использованием последних достижений фортификационного искусства. Каждый участок стены защищался рыцарями отдельного "языка" – английского, французского, испанского, немецкого и других, каждый из которых соревновался в доблести.
Османская артиллерия начала обстрел, сотрясая землю и разрушая каменные укрепления. Рыцари отвечали из своих пушек, совершали дерзкие вылазки, нанося урон осаждающим. Сулейман наблюдал за ходом осадных работ из своего шатра на ближайшем холме. Он видел, как тяжело дается каждый метр, как героически сражаются защитники.
Одной из ключевых особенностей этой осады стала минная война. Османские саперы, известные своим мастерством, начали рыть подкопы под стены и бастионы, закладывая порох для взрывов. Но рыцари тоже имели опытных инженеров, которые вели контр-подкопы. Под землей разворачивалась своя, невидимая битва – душная, опасная, часто заканчивавшаяся взрывами, обвалами и рукопашными схватками в полной темноте.
На протяжении осени Сулейман приказывал проводить массированные штурмы. Волна за волной османские воины – янычары, азабы, акынджи – шли на прорыв через разрушенные участки стен. Это были кровавые бойни. Рыцари и гарнизон сражались с фанатичным упорством, нанося огромные потери нападающим. Тысячи османов гибли в этих беспрерывных атаках. Земля перед стенами была усеяна телами.
Осада затягивалась. В армии росло недовольство, усталость, потери были ужасающими. Некоторые паши начинали сомневаться в успехе, роптать. Но Сулейман оставался непреклонным. Он лично обходил ряды, подбадривал воинов, наказывал трусов, щедро награждал храбрецов. Его решимость передавалась армии. Он не мог отступить, не повторив судьбу своего прадеда. Родос должен пасть.
Великий Магистр де л'Иль-Адам и его рыцари тоже были на грани истощения. Запасы таяли, гарнизон уменьшался с каждым днем от ранений, болезней и постоянных боев. Стены были сильно повреждены, оборонять их становилось все труднее.
К декабрю 1522 года стало очевидно, что город долго не продержится. После очередного сокрушительного обстрела и последовавшего за ним штурма, который хоть и был отбит, но показал крайнюю степень истощения защитников, Великий Магистр понял, что пришел конец. Дальнейшее сопротивление означало бы полное уничтожение гарнизона и мирного населения.
Через посредников были начаты переговоры. Рыцари запросили почетную капитуляцию. Сулейман, проявив неожиданное для многих милосердие, согласился. Возможно, он был впечатлен их мужеством, возможно, хотел избежать новых кровопролитных потерь при финальном штурме, а возможно, стремился показать себя цивилизованным и великодушным правителем в глазах Европы. Он предложил рыцарям уйти с острова, сохранив свое оружие, знамена и личное имущество. Им было дано несколько дней на сборы, и османы даже предоставили корабли для их эвакуации.
20 декабря 1522 года, через шесть месяцев после начала осады, Рыцари Родоса покинули свой остров, на который они правили более двухсот лет. Во главе процессии шел Великий Магистр, окруженный уцелевшими рыцарями, их лица были полны скорби, но они шли с достоинством.
27 декабря 1522 года Султан Сулейман торжественно въехал в покоренный город Родос. Над крепостью взвилось османское знамя. Главная церковь Святого Иоанна была превращена в мечеть.
Взятие Родоса стало второй грандиозной победой Сулеймана за два года. Он покорил Белград, открыв путь на Запад, и взял Родос, обезопасив морские пути на Востоке. Он добился того, чего не смог его великий прадед. Он доказал, что является не только наследником, но и преемником великих османских завоевателей. Османская империя стала еще могущественнее, а Султан Сулейман – еще более грозным и почитаемым правителем. Он был Воином, взявшим два неприступных бастиона, и Владыкой, утвердившим свое господство на ключевых перекрестках мира. Мир все больше узнавал имя Сулеймана, и это имя произносилось с почтением или страхом.
Глава 7: Ибрагим: От Сокольничего до Визиря
После триумфального возвращения из Родоса, Султан Сулейман был на вершине славы. Его имя произносилось с почтением и трепетом во всех уголках известного мира. Он доказал, что достоин трона и способен превзойти своих великих предков. Но рядом с ним, в тени его величия, неуклонно восходила другая звезда – звезда Ибрагима.
Ибрагим был не просто слугой, не просто придворным. С самых юных лет, проведенных вместе с Шехзаде Сулейманом в Манисе, он стал его тенью, его доверенным лицом, его братом по духу. Их связь была необычайно глубокой, основанной на shared интересах, взаимном уважении и непоколебимой верности. Сулейман видел в Ибрагиме не раба, взятого в девширме, а родственную душу, человека исключительного ума и талантов, которому он мог доверять абсолютно.
Их дни в Манисе были полны не только учебы и тренировок, но и долгих бесед, совместных занятий музыкой (Ибрагим был искусным скрипачом), обсуждений книг, истории и искусства управления. Ибрагим обладал удивительной способностью понимать мысли и чувства Сулеймана, предвидеть его желания, говорить с ним открыто, когда другие молчали из страха или благоговения. Эта искренность и полное отсутствие лести делали его бесценным в глазах принца.
С восшествием Сулеймана на трон, положение Ибрагима при дворе изменилось стремительно и поразительно. Начав с должности Хранителя покоев ("Хюнкар Столовый" или "Хас Камабаши" – точные названия менялись, но суть в близости к Султану), он оказался в самом центре власти. Это была позиция, которая давала ему постоянный доступ к Султану, возможность слышать все беседы, видеть всех посетителей, знать обо всех событиях.
Сулейман не скрывал своей привязанности и доверия к Ибрагиму. Он обедал с ним, проводил долгие часы в разговорах, советовался по самым разным вопросам – от государственных дел до личных переживаний. Этот уровень близости был беспрецедентным. Исторически, султаны часто держали дистанцию даже с ближайшими визирями. Но Сулейман и Ибрагим казались одним целым, двумя сторонами одной медали.
Прошло всего несколько лет, а Ибрагим уже получил ряд высоких назначений. Он стал *бейлербеем* (генерал-губернатором) Румелии, европейской части империи – пост, традиционно занимаемый опытными и заслуженными военачальниками. Это дало ему прямой контроль над одной из самых важных провинций и, главное, над значительной частью армии. Затем последовали другие титулы и почести.
Двор наблюдал за этим головокружительным взлетом с растущим изумлением и нескрываемым недовольством. Кто был этот грек, этот *кул* (раб Султана), который обошел всех, кто служил династии десятилетиями? Старые, заслуженные визири, паши из знатных османских семей, улемы – все они видели в Ибрагиме выскочку, чья власть основывалась не на происхождении или многолетней службе, а лишь на личной привязанности Султана. Шёпот зависти и ревности множился за спиной Ибрагима.
Но Сулейман игнорировал это недовольство. Он видел в Ибрагиме не просто друга, но и идеального исполнителя своей воли. Ибрагим был блестящим дипломатом, о чем свидетельствовали его успешные переговоры, например, с представителями побежденных рыцарей Родоса. Он обладал стратегическим мышлением, хорошо разбирался в финансах, был эрудирован и говорил на нескольких языках, что делало его незаменимым при дворе, принимающем послов со всего мира. Он был лоялен только Султану, не имея собственного рода или клана, способного оспаривать власть династии. В глазах Сулеймана, это делало его самым надежным человеком в империи.
Положение Ибрагима укрепилось еще больше, когда Сулейман даровал ему свою сестру, Хатидже Султан, в жены. Этот брак с представительницей правящей династии был исключительной честью, подчеркивающей его уникальное положение. Ибрагим получил дворец на Ипподроме – роскошную резиденцию, больше похожую на дворец султана, чем на дом визиря. Он принимал иностранных послов, вел переговоры, представлял интересы империи. Его влияние росло с каждым днем.
Пири Мехмед Паша, мудрый и осторожный Великий Визирь, назначенный еще отцом Сулеймана, видел, к чему идет дело. Он понимал, что его время на исходе, и место Великого Визиря, самой высокой должности в империи после Султана, рано или поздно займет Ибрагим. Возможно, он испытывал некоторую досаду или тревогу, но его многолетний опыт научил его принимать волю правителя и не вступать в открытую конфнию. Он ушел в отставку в 1523 году, уйдя на покой.
И тогда произошло то, чего ждали и боялись многие. В июне 1523 года Султан Сулейман назначил Ибрагима Пашу Великим Визирем Османской империи. Человека, который всего за три года проделал путь от хранителя покоев до главы правительства одной из величайших держав мира. Это был беспрецедентный взлет, вызвавший шок и изумление.
Теперь Ибрагим Паша занимал самый высокий пост. Он возглавил Диван, принимал окончательные решения по множеству государственных вопросов, командовал армией в отсутствие Султана. В его руках сосредоточилась огромная власть. Он стал правой рукой Султана, его голосом и исполнителем его воли.
Сулейман полностью доверял ему. Он даже говорил: "Если я сплю, Ибрагим бодрствует. Если я в походе, Ибрагим охраняет мой дом. Если я говорю, Ибрагим слышит." Он даже даровал Ибрагиму титул *сераскер* – главнокомандующий, который мог действовать от имени Султана даже в военных вопросах, что было неслыханной привилегией. Ходили слухи, что Сулейман даже поклялся, что Ибрагим не умрет в его правление, но это могло быть лишь легендой.
Но вместе с властью пришла и опасность. Влияние Ибрагима, его богатство, его близость к Султану – все это порождало не только зависть, но и страх. Он был молод, амбициозен и не всегда осторожен в словах и поступках, иногда позволяя себе высокомерие, которое раздражало старую гвардию и религиозных деятелей. Его быстрая карьера, основанная на личной милости Султана, не имела прочной опоры в традиционной структуре власти и элиты.
Ибрагим Паша стал могущественной фигурой, фактически соправителем, доверенным другом, который знал все тайны Султана и империи. Их связь казалась нерушимой, выкованной годами дружбы и взаимного уважения. Но двор Османской империи был местом, где даже самые крепкие узы могли быть порваны под давлением интриг, амбиций и подозрений. Восхождение Ибрагима было блестящим, но каждый шаг вверх по лестнице власти приближал его не только к солнцу Султана, но и к опасной высоте, с которой падение могло быть смертельным. Эхо зависти и шепот недовольства становились все громче, предвещая грядущие бури.
Глава 8: Пленница из Руси. Врата Гарема
В то время, как Султан Сулейман утверждал свою власть на поле боя и в государственных делах, а Ибрагим Паша стремительно поднимался по ступеням иерархии, в другом, скрытом от глаз внешнего мира, сердце дворца Топкапы, начиналась совсем иная история. История, которая, сплетясь с судьбой Султана, навсегда изменит не только его жизнь, но и ход истории империи. Эта история началась в пыли и скорби невольничьего рынка.
Лето 1520 года. Крымские татары, верные вассалы османского Султана, совершили очередной набег на земли Руси и Польши. Эти набеги были обыденным и жестоким явлением, приносившим в Османскую империю главный "товар" – рабов. Тысячи несчастных – мужчины, женщины, дети – были согнаны вместе, связаны и отправлены в долгое, изнурительное путешествие на юг, в Крым, а оттуда – через Черное море, в Стамбул.
Среди этого живого груза, изможденная, грязная, с глазами полными страха и гнева, находилась юная девушка из Рогатина, небольшого городка на Западной Украине, тогда в составе Королевства Польского. Ее звали Анастасия, дочь священника. Она была красива – рыжеволосая, с яркими зелеными или голубыми глазами – исторические описания разнятся, но все отмечают ее красоту и необычный цвет волос, который позже принесет ей прозвище "Хюррем" – Веселая. В одночасье ее мир – мир домашнего уюта, веры и привычных традиций – был разрушен. Она потеряла все: семью, дом, свободу.
Прибыв в Кафу (ныне Феодосия) в Крыму, а затем переплыв Черное море, Анастасия и сотни других пленников оказались на невольничьем рынке Стамбула. Это был огромный, шумный и жестокий базар, где человеческие жизни оценивались как товар. Их осматривали, ощупывали, заставляли ходить, демонстрируя "качество". Страх, унижение и отчаяние царили в этом месте.