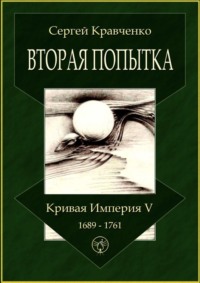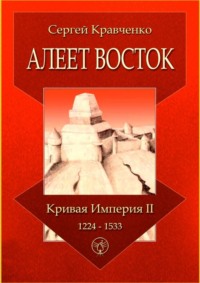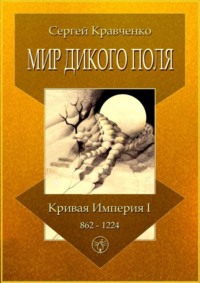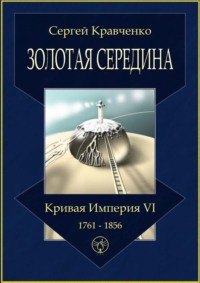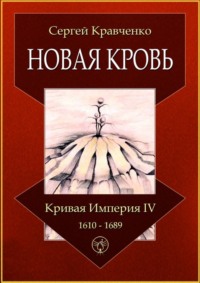Полная версия
Тайный советник Ивана Грозного. Приключения дьяка Федора Смирного
И тут – будто гром грянул с ясного ночного неба! Царь, грозный повелитель всей земли от края небес и до края их, крикнул звонким голосом и назвал Истому по имени!
Истома вскочил со скоростью приказного стряпчего, выпучил глаза, состроил фальшивую улыбку и попытался потереться о сафьяновый сапог. Но ударила дверь, вбежал усатый коротышка, памятный по яме и монастырскому происшествию, все закрутилось, замелькало, Истома оказался за пазухой Хозяина и вскоре уже наблюдал луну из дворовой ямы. Правда, не всю целиком, а только тонкий серебряный лучик на глинистой стенке. Зато еда была прежняя, дворцовая, без мышиного запаха, без гнили, без отвратительного ладана.
«Согласился Хозяин, – умиротворенно думал Истома, засыпая под епанчой, – еще послужим Отечеству!»
* * *А Федору не спалось. Он перечислял про себя все, что стало известно от царя и что знал сам. Получалось много. Гораздо больше, чем в головоломках из святых книг. В монастыре, пытаясь разгадать какую-нибудь библейскую тайну, Федор никак не мог собрать составные части, связи, факты, достаточные для точного ответа.
Вот, например, задача о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Иисус накормил несколько тысяч народу. Если бы в притче определенно говорилось о мешках, из которых Иисус доставал еду, можно было бы утверждать, что целые караваи и целые рыбины снова и снова возникали в мешках по Божьей воле. Тогда нечего говорить о конкретных числах 2 и 5. Нужно так прямо и считать: в мешки положено пять хлебов и две рыбы; извлечено столько-то тысяч караваев и столько-то пудов рыбы. А если мешков не было? Если рыба размножалась прямо в руках Христа, а у караваев отрастали оторванные бока? Как дико это выглядело! Какими тупицами были галилейцы, если, видя такое чудо, продолжали жрать и не думали ни о чем, кроме собственного брюха?! Наша монастырская братия тоже караваи рвет страстно, но покажи им чудо – раззявит рот, забудет жевать. Нет, не зря иудеев прокляли…
Отец Савва на вопросы Федора обиженно фыркал, становился похож на некормленого Истому, назначал любопытному отроку легкую епитимью. Вроде службы в поварне – чистить рыбу и печь хлеб.
А в царских тайнах было слишком много сведений. И слишком много получалось очевидных, правдоподобных ответов.
Могли желать смерти Настасьи сильвестровцы? Обязаны были! Сильвестр получил неограниченную власть со времени коронации Ивана в 1547 году. Юный царь был занят тогда только тремя делами: любовью к молодой жене, медленной местью за поруганную мать и собственно царством. Из царства у Ивана хватало времени на гражданское правление, на войну, на борьбу с разбоем. Дела духовные, церковные, дипломатические, приказные достались Сильвестру. Тут он опередил многочисленных родственников царицы. Потом братья Захарьины осмотрелись при дворе и давай наступать!
Сильвестр и Захарьины наперебой расставляли своих людей по волостям, землям, городам. Но у Сильвестра было большое преимущество – он имел прямой доступ к государю. Более того, по главной своей обязанности царского духовника Сильвестр ежедневно подсказывал Ивану, что достойно есть и что недостойно есть. Что такое хорошо и что такое плохо. Кто из людей угоден Богу на государевой службе, а кто нет. Божье имя припечатывалось на все подсказки Сильвестра, как небесная печать, – попробуй поспорь!
Но Захарьины пробирались через Настасью. Ночь была их без остатка! Не в каждую ночь Настасья могла решить дела, но если уж решала, то бесповоротно! И стал Сильвестр замечать, что уходит потихоньку из его рук ниточка царской воли. Особенно в мирских вопросах. Запустит он своего человечка в рыбные промыслы или к литейному делу, и царь этого человечка примет. Но через месяц или год прибегает человечек к Сильвестру ободранный, горько плачет сирота: обобрали настасьинцы, наехали по государеву указу. Сильвестр к царю: как же так?
– А так, – прячет глаза Иван, – очень нужно троюродного племянника царицы уважить.
Оказалось, Настасья – самый острый гвоздь в Сильвестровом распятье.
Тут при дворе выскочил Лешка Адашев – смазливый, проворный молодой человек из не очень знатных, но и не очень подлых. Сильвестр сначала огорчился, но потом рассчитал: Адашева Захарьины не пропустят, у них на каждое место по десять родичей готово. Решил Сильвестр сам Адашева пропустить. Но куда? Уж не в монахи с искусительной рожей! Сильвестр провел Адашева прямо к царю! А что? Правителю умные советники нужны. А тупые Захарьины что посоветуют? И Сильвестру Адашев не помеха – он по своим делам ходок, Сильвестр – по своим. К тому же Лешка Сильвестру такой был благодарный, что чуть в ногах не валялся и ручки целовал! Ну и целовал, а что? Попу можно.
Сложилась тихая, непоказная дружба. И конца ей не было, потому что на Сильвестровы вотчины Алексей не посягал, выдавливал потихоньку настасьинцев. А этих надолго должно было хватить. И еще одного, третьего, партнера нашли приятели. Настоящий князь Дмитрий Курлятьев вошел с ними в сговор и стал заниматься сословной политикой. Ему, князю, это удобнее было, чем не пойми какому Лешке или попу. Составился тайный триумвират. Троица, так сказать.
Эти придворные расклады были в Москве известны каждому. В монастыре их ежедневно обсуждали на закате. А что царь? Он тоже чувствовал придворные дела. Но то, что обывателю представляется окончательной истиной, властителю часто кажется сплетней, интригой. Вот он и Феде излагал семейное дело в сомнении: достойно ли веры?
Как повернется московская жизнь, умри Настасья? Захарьиным сразу конец. В лучшем случае ссылка в сытые места. Там они могли бы дожидаться Ивановой смерти, Ивана-малого воцарения. Но Иван Иванович еще неизвестно, как с дядьками обойдется. Нужны они тут под ногами путаться? Скорее, нет. Но и казнить он их не будет, оставит на прикорме. А в трудную минуту может и позвать. Значит, настасьинцам нужно терпеть молча. Пока не подрастет Иван-маленький. И тогда они становятся смертельной угрозой Ивану Грозному.
Сильвестровцам, наоборот, дожидаться нечего. Настасья – их смерть. Смерть Настасьи – их надежда. Ивану сейчас только 30 лет. Еще столько же может править. За это время всякое произойдет. Успеем пожить.
Хочет ли Сильвестр Настасьиной смерти?
Конечно, хочет. Но хотеть можно по-разному. Можно хотеть и делать, даже с риском для жизни. А можно просто хотеть. Чтобы это случилось само собой, безнаказанно. Сильвестр хочет и делает – без риска, как ему кажется. Он сам ядов не смешивает, ведь правда?
Алексея Адашева в Москве сейчас нет. Он в мае, с прошлой посылкой войск уехал в Ливонию третьим воеводой Большого полка. Чин плевый. В Разрядной книге с ним не продвинешься. Нужно узнать, как уезжал Адашев. С опалой или сам? Если Настасью продолжают травить, то, получается, не от Адашева? Или он людей оставил? Или все-таки Сильвестр?
Так, кому еще Настя мешает? Были бы у царя дети от других жен или бабы на стороне, но с претензией, тогда да. Они бы Настю изводили. Но баб не видно, дети все – Настины, двоюродным братьям до царства далеко, разве что княжичей передушить. Но тогда нужно с Грозного начинать. И кто-то же начинал? Что за шестерка ряженых в монастыре объявилась? Если они от Сильвестра, то что получается?
Получается так. Ивана нету, Насти нету, Захарьиных долой. И можно спокойно душить детей. Но Сильвестру это зачем? Сам в цари собрался? Ну не Адашева же ставить? У того в роду боярства меньше, чем у Истомы блох. Как бы есть, но по морде незаметно.
Значит, Сильвестр старается не для себя. Или для себя, но не в царях. А в сатрапах каких-нибудь или регентах-хранителях престола. Нужно посмотреть, какие у него связи в Литве, среди английских и немецких гостей. Узнать, какие книги читает. Спрашивать через Прошку волокитно. Сейчас бы во дворце самому поискать.
И еще вопрос. Кто приходил утром? Что за человечишко выспрашивал, вынюхивал? Он не с базара забрел полюбопытствовать, не сам по себе. Это важный след. Кому-то очень интересно опознать вора. Спутал Федор карты людям. Они думают, что есть еще один заговор. С утра на Красной площади громко кричали о поимке вора, и они почему-то не могут ждать до естественного прояснения дела. Значит, придут еще.
Федор постучал палкой в крышку ямы и попросил караульных кликнуть Прохора. Толстяка подняли с трудом, и он полуодетый приковылял к яме. Ворчал, но ругаться не стал. Знал о вечерней встрече царя и вора.
Федя медленно, четко, мысль за мыслью вдолбил Прошке следующее.
Нужно правдоподобно убрать от ямы охрану. Послать несколько человек для тайного наблюдения за ямой издали. Не препятствовать приходу ночных гостей. Вообще не препятствовать никаким событиям. Следить со стороны, сопровождать пришельцев, проведать, кто такие и зачем. Только так мы узнаем, откуда ноги растут.
Последний вопрос окончательно разбудил Прошку. Он приоткрыл полы теплого кафтана, посмотрел, откуда растут ноги, скривил рот, пожал плечами и прошлепал в сторону дворца.
* * *В те времена Московский Кремль – не то что теперь – был проходным двором. Он, конечно, был так же обнесен красной кирпичной стеной, ворота находились на запорах, особенно в ночное время. Но проверку этих запоров производили от случая к случаю, от войны к войне. Днем через ворота в Кремль беспрепятственно входили десятки, сотни богомольцев, монахов, мастеровых. И они не на экскурсию сюда прибывали, они жили здесь – во дворце, в нескольких монастырях, при церковных и дворцовых службах. Документов у пришлого народа никто не спрашивал – не было никаких документов. Даже понятия такого караулы не знали. Бывало, спросят странника: «Кто таков?», такой же ответ и получат: «Кукуйской волости села Бурьянова, растакой-то матери природный сын». И все. Короче, войти мог любой.
Минувшим днем караульная сотня Стременного полка перестаралась с повышением бдительности. Штрекенхорн лично обошел все ворота, осмотрел закладные бревна – огромные деревянные засовы, приказал к ночи все закрыть. На митрополичьем подворье было объявлено об особом положении. Приходящим и уходящим Макарий указал до захода солнца закончить дела и через ворота не ходить.
Так что теперь в кремлевских стенах было тихо.
Но Федя знал, что стен без дыр не бывает. И тот, кто идет по тайному делу, никогда не пользуется воротами. В Сретенском монастыре стены были не ветхие, ворота обычно замкнуты. Но в дальнем углу двора за общежительными кельями имелся лаз. Он даже прикрыт не был, все о нем знали. В праздничные дни, когда ворота распахивались для прихожан, воспитанники все равно пользовались лазом. Даже если их посылал по делу сам игумен Савва.
Были дырки и в кремлевской стене. Во-первых, имелись потайные ходы из башен к реке – брать воду во время осады.
В самих башнях были проделаны малые сквозные ниши – печуры. Они и правда напоминали печное устье. Человек в печуру проходил чуть согнувшись. В двух местах – с восточной стороны и на юго-западном углу – стены треснули еще при пожаре 1547 года. Трещины змеились сверху и у земли достигали двух-трех вершков в ширину – ногу можно вставить. А на уровне трех саженей в трещину уже мог проскользнуть не очень полный человек. Не Прохор, конечно. Прохору нужно еще сажень подниматься. В общем, дыры есть. Для важного дела кремлевская стена не помеха. Хотя в Москве поныне бытует мнение, что Кремль на замке.
Сразу после полуночи у ямы снова возникло оживление. Подьячий Прохор привел стрелецкого сотника Штрекенхорна, что-то кричал, топал ногами, придирался к выправке полусонных часовых и наконец велел им убираться к черту. На хрен такой караул! Лучше замок навесить.
Караул убрался, потом вернулся, не доходя ямы, свернул к пристенным лабазам, откуда вскоре донеслись кудахтанье разбуженных кур, мат, грохот железа. Потом песня. Караульные весело промаршировали мимо ямы, сбросили на крышку ржавую цепь с замком неизвестной системы, а бочонок с жидкостью известной крепости сбрасывать не пожелали. Песня переместилась в гридницу и пелась еще с час. Все это время крышка ямы оставалась незамкнутой, и вор с досадой поминал русское раздолбайство на любом году службы. Наконец пришла пара служивых. Поддерживая друг друга в борьбе со всемирным тяготением, воины кое-как растянули цепь поперек крышки, продели концы в шаткие кольца, а уж замок вставить в звенья цепи им помог не иначе как святой Петр – ключник Бога и организатор хмельного поста.
Так что если чей-то глаз наблюдал в эти минуты за окрестностями ямы, он много веселился и с трудом сдерживал ехидный смех.
В пределах Кремля находилось, однако, несколько человек, которым было не до смеха. Первый, царь Иван, инструктировал в своем покое второго – молодого человека в черном. Черное на нем было непривычным для московского обихода. Здесь не удивлялись монашеским облачениям, черным от пыли и копоти армякам мастеровых. Но ночной гость Грозного был одет в щегольской костюм польского кроя с короткой накидкой. У него был вовсе не русский вид при вполне русском имени. Звали молодого человека Иван Глухов. Он числился при Поместном приказе, основанном четыре года назад для присмотра за раздачей вотчин.
Два Ивана разговаривали полушепотом, хотя вокруг никого не было. Иван Глухов рассказывал о своих наблюдениях за передачей волостей в последние недели. Оказывалось, что братья Захарьины за месяц потеряли с полдюжины уездов, солеварни у Перми, земли в окрестностях двух монастырей. Представление на передачу выморочных вотчин, промыслов и наделов давал, как обычно, Разрядный приказ. Значит, он под адашевцами, несмотря на отъезд Алексея, – заключил Глухов.
Грозный спокойно кивал доносчику головой и не свирепел по обыкновению, потом перевел беседу в другое русло. Глухов получил указание взять людей и немедля приступить к скрытному наблюдению за ямой. Любого, кто подойдет к ней, проследить до логова. Ничего не предпринимать, обо всем увиденном и услышанном доложить. Глухов растворился в ночи.
Грозный довольно вспоминал поучение старца Вассиана: «Призывай молодых». Сейчас во всех приказах и приказных палатах служили скромные ребята из незнатных семей. Они бледными тенями скользили по приказным избам, все запоминали, все сообщали царю. Прошку, конечно, бледной тенью не назовешь, но в Большом дворце худым быть подозрительно.
Еще не спалось в кремлевской ограде сотнику Штрекенхорну. Он более других стрельцов уловил напряжение момента. Поэтому и пил меньше. Сидел на лавке поближе к двери и во всеоружии. Длинный меч шведской выделки тянул кожаную перевязь, давил на плечо. Бердыш на тяжелом дубовом древке стоял в уголке за дверью. Был у Штрекенхорна даже пистолет. Он заряжал его раз в неделю перед караулом. Сейчас пистолет оставался заряженным третий день, и сотник опасался за его огнестрельные свойства.
Не спал и Прохор. То есть спать ему не давали. Ключник царицы Анисим Петров ходил по каморке Прошки из угла в угол и при каждом проходе толкал подьячего в плечо. Такова была в эту ночь служба Анисима.
Вот, кажется, и все. Нет, еще двое не спали. Оглашенный вор Федор Смирной боролся со сном в яме под епанчой. Кот Истома мешал ему бороться громким сопением, переходящим в храп. Кот дрых без задних лап – слишком плотно поужинал, слишком многое пережил за день. Под мурлыканье Истомы спать хотелось вдвойне.
Второй неспящий бездвижно сидел в прорези большой звонницы, спиной к дворцу – лицом к яме, и смотрел вниз. Если бы в русской традиции нашлось место для каменных изваяний, этого наблюдателя можно было бы посчитать гранитной химерой.
Так получалось, что именно этот человек стал ключом ночного движения. Раньше него никто в кремлевском дворе не смел двинуться. Но и видеть его никто не мог – так неудачно падали лунные тени. Человек тоже не видел никого из членов ночной вахты, он даже надеялся, что таковых вовсе нет. А ждал он часа, когда луна уберется за громаду дворца и зубчатку стены.
И скоро такой час настал.
Часть 2. Две памяти
Царь Иван и сирота Федор лежали в своих очень разных постелях, но мысли их витали в одном и том же времени. Видно, что-то связывало этих людей – и не только интригой сегодняшней ночи.
Иван вспоминал начало 1547 года – венчание на царство, свадьбу с Анастасией, первые успешные дела, когда удалось преодолеть, сломать боярскую оппозицию. Но свадьба вспоминалась приятнее всего. В этом обряде не было ничего натянутого, опасного. И ответственность перед молодой женой, семьей хоть и была велика, но не шла в сравнение с тяжкой ответственностью воцарения, долгом сверхъестественным, нечеловеческим. К памяти о свадьбе Иван прибегал, когда становилось совсем уж беспросветно. Иван прятался в то 3 февраля, в единственный день жизни, с утра до ночи прошедший в радости.
Ох и снежной была та зима! Но солнце ежедневно показывалось над Москвой, золотило купола, осыпало алмазами деревья, весь кремлевский двор. Ивану почему-то вспоминался краткий миг выхода из церкви. Не венчание у алтаря, не застолье, не брачная ночь, а именно тот единственный шаг через порог Успенского собора. Он сравнивал его с точно таким шагом двухнедельной давности, когда выходил после венчания на царство. Погода была одинаковая – солнечно-снежная, и люди на площади собрались те же – московский люд, дворяне, беломестцы, жильцы. Но что-то разнило эти два выхода.
16 января первый русский венчанный царь был встречен криками привета, бросанием шапок, звоном колоколов.
Но глаза людей светились тревогой. Что несет им вселенское значение московского правителя? На что он покушается? Вдруг объявит сейчас войну всему неправославному миру? А мы тогда как?
А 3 февраля – дело другое! Народ завопил дружно, колокола ударили в лад, чуть не лопнули от счастья. Их «малиновый звон» превратился в «малиновый вопль». «Все были с ног до головы в малине», – улыбнулся Иван.
Люди радовались от души и не могли наглядеться на красавицу Настю, выигравшую царские смотрины – открытый конкурс невест. Всех умиляло, что царь – сам сирота с 3 и 8 лет – тоже взял за себя сироту. И когда после венчания молодая пара остановилась на ступеньках южных врат собора и собиралась ступить на ковровую дорожку, проложенную по снегу к дворцовой лестнице и Красному крыльцу, жениховы дружки – подвыпившие кравчие – бросили в толпу «посыпку» – мелкие золотые и серебряные монеты. Так народ не сразу на них и кинулся! Промедлил миг, боясь оторвать глаза от царя и царицы. Этот миг Ивану был дороже всех кремлевских сокровищ, он бы каждый день опустошал сундуки, лишь бы так верили и любили. Но что поделаешь, жизнь гораздо скучнее праздника.
Хорошо бы, если просто скучнее. Она страшнее, злее, завистливее. Никаким народным гуляньем не стереть ужаса, который преследовал Ивана с детских лет. Почему-то ярче других вспоминалась сцена в маминой спальне 12 апреля 1538 года, в девятый день ее смерти. Девятины отсидели напряженно. За скромным столом придворные цепко посматривали друг на друга и опасались, просто отказывались пить и есть. Шептались об отравлении царицы Елены.
Вечером восьмилетний Ваня зашел в спальню царицы, постоял, посмотрел сквозь пыльное окно в беспросветный мрак. Подошел к постели. На ней было разложено любимое выходное платье мамы из темно-красного византийского бархата с серебряным и жемчужным шитьем. В него собирались обрядить покойницу, но кто-то шикнул на спальных девок: «Нечего добро переводить!» – и Елену погребли в монашеском облачении, хоть на самом деле не успела она принять предсмертный постриг.
«Быстрый яд смешали, сволочи! – прошипел царь Иван, вспоминая. – Ну, погодите! Я вам смешаю!»
А мальчик Ваня все стоял у постели, и платье казалось ему тенью матери, кровавым отпечатком.
Он хотел уже идти к себе, когда в дверь ударили, она взвизгнула петлями, и в комнату вошли боярин Михаил Тучков и окольничий Андрей Михайлович Шуйский, только вчера выпущенный из тюрьмы и пожалованный в бояре.
Увидев Ивана, они и ухом не повели. Тучков стал шарить по сундукам, углам, шкатулкам с рукоделием. Искали не драгоценности, их еще неделю назад ссыпали в сокровищницу. Их даже не украли! Шуйские собирались владеть всем!
Пока Тучков шуровал в женских тряпках, князь Андрей уселся в кресло у кровати. Ноги в слякотных сапогах положил на постель, прямо на платье Елены. Ваня побледнел, оцепенел от ненависти и страха.
– А знаешь ли ты, Ваня, что мы с тобой братья? – начал враскачку Шуйский. – Да-да, оба – Рюрикова корня. Потомки светлого Александра Невского. Только ты от младшей ветви, а я – от старшей! А что нам Рюрик завещал? Что старший брат младшему – отец и господин, несмотря на волости. Так я тебе заместо отца теперь буду.
Шуйский заржал, перебросил ногу за ногу, отчего жирный ошметок апрельской грязи упал на жемчужную россыпь по поясу платья.
– А лучше, Ваня, – продолжал Шуйский, – давай я тебе не просто отцом буду. Хочу называться не только боярином, а первосоветником государевым! Слышь, Тучков, запиши новый чин, пока не забыл.
Тучков хлопнул крышкой сундука и нервно подскочил к постели.
– Нету бумаг, Андрей! Нет переписки! Но должна быть! Говорили люди об измене. Куда ты, сука, письма польские девала?! – завопил Тучков, и Ваня понял, что он пьян.
Тучков опрокинул ларец с рукоделием, схватил вязальные спицы и, упав на колени у постели, стал с силой втыкать их в платье. При этом он изрыгал чудовищный мат и старался поразить сталью самые интимные точки. Ваня подскочил к кровати, ухватил платье за рукав и дернул к себе. Но в другой рукав уже вцепился князь Андрей, он тоже рванул платье, и оно лопнуло в вороте и в подмышках. Правый рукав оторвался и остался в руке Шуйского. Князь медленно сложил его вчетверо, поплевал на ткань и, глядя на Ваню с улыбкой, стал чистить носок сапога. Ваня выбежал в коридор.
Тут только что пронеслась толпа с факелами. Старший Шуйский, Василий Васильевич, спешил схватить князя Оболенского, фаворита покойной царицы. Воняло смоляной гарью и смрадом пьяной компании.

Ваня почувствовал ледяную корку на поверхности мозга, еле добрел до своей спаленки, забылся в бреду на несколько недель. Это спасло ему жизнь…
Федор Смирной тоже вспоминал детство. И вот же чудо! – он тоже находился сейчас на площади перед вратами Успенского собора утром 3 февраля 1547 года!
Пятилетний Федя стоял между отцом и матерью в первом ряду обывателей. Если, конечно, считать рядом неспокойный край людской толпы. Такое видное место семейству московского жильца Михайлы Смирного досталось не случайно. Смирные здесь сразу встали, пока другие метались по площади то к раздаче вина, то к столам с караваями и сыром. Теперь только красная спина огромного стрельца загораживала Федору царский выход. Отец поджал соседей влево, и Федя оказался между двумя стражниками. Очень удобно!
Гул толпы усиливался, она волновалась, дышала в спину. Будто огромный зверь ждал чего-то у норы под каменной стеной и уже не мог сдерживать возбужденное дыхание. Вдруг соборные врата, прикрытые от февральского сквозняка, ожили, шевельнулись, подались. Толпа взвыла. И тут же ударили все колокола Большой звонницы, замыкающей площадь.
Все – да не все! Это средние колокола да мелкие колокольчики заиграли – их усердно дергали молодые звонари. А главный московский колокол – «Благовестник», подвешенный ниже остальных, вступил, погодя несколько мгновений. Старый звонарь раскачивал его уже несколько минут, не доводя огромный язык до касания с красной тысячепудовой медью на пару вершков, и все равно ему понадобилось немало сил, чтобы поддать качания и ударить.
Бой «Благовестника» задал ритм действию. По первому удару отроки из охраны распахнули врата во всю ширь, по второму – на порог вышел служка с иконой, по третьему – монах с крестом, по четвертому – митрополит Макарий с посохом Петра-чудотворца, а с пятого удара уже и пара молодых стояла перед народом. Толпа зашлась в крике и стала слышна через колокольную мелочь. Только «Благовестник» заглушал, будто выключал ее на мгновенье.
Несколько дней назад сквозь вечерний сон Федя услышал разговор отца и матери. Отец рассказывал о предстоящей царской свадьбе. Его голос то затухал, то звучал четко, – это мама ходила по горнице и перекрывала звук. Вот она спросила, кто будет невеста. Отец ответил, что покойного Романа Кошкина дочь. Мать прошла по комнате с блюдом пирожков, и Федя услышал только два последних слова: «Кошкина дочь!» Царь женится на кошке! Вот здорово! Вот чудо!
Чуда Федя давно дожидался. Как-то раз в воскресенье после церкви он прямо спросил отца: скоро ли будет чудо, о котором все время говорит приходской батюшка отец Серафим? Отец ответил, что скоро. Как только венчают молодого царя.
– А кто будет делать чудо? Царь?
– Царь.
И час настал. Царя венчали уже во второй раз. Первый раз – понарошку – на царство, сегодня – всерьез – на кошку Настю, и отец сказал, что больше венчать не будут. Значит, это последний случай для чуда. Федя стоял, раскрыв рот. Он ожидал увидеть у невесты маленькие треугольные ушки, полосатую мордочку и мягкие лапки.