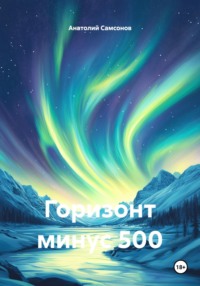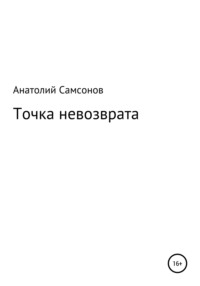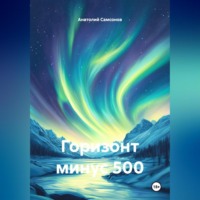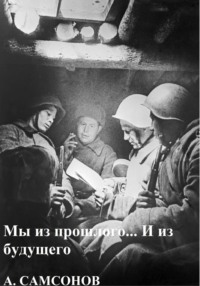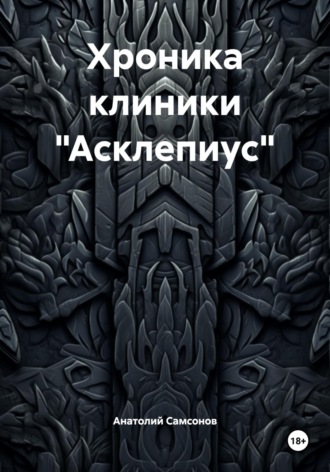
Полная версия
Хроника клиники «Асклепиус»

Анатолий Самсонов
Хроника клиники "Асклепиус"
Хроника клиники «Асклепиус».
Глава I. Асклепиус.
Погода разбушевалась. Порывистый осенний ветер терзал кленовую аллею, срывал с деревьев мокрые от дождя листья с семенами – вертолётиками и швырял их в лицо. Семена – вертолётики, наблюдать за падением которых в сухую осеннюю погоду доставляет удовольствие и каждый раз подталкивает к мысли об удивительном разнообразии природы, сейчас – направляемые резкими порывами ветра – превращались в маленькие злобные дротики, больно бьющие по лицу и ушам.
По дороге вдоль кленовой аллеи, обгоняя меня, ехал автобус. Это был мой автобус и я, опустив пониже капюшон куртки и выставив перед собой щитом папку со всеми моими документами, припустил со всех ног к остановке. Водитель автобуса увидел меня, проявил милосердие, и я успел.
А ехал я на собеседование. Сегодня исполнилось ровно четыре недели как я пополнил немногочисленный, как утверждает наша самая правдивая в мире, но слегка лукавая статистика, отряд безработных. И это будет мое пятое собеседование на предмет обретения работы. Ехал я по объявлению, размещенному в газете «Северо-Запад».
Я живу на северо-западе столицы и регулярно получаю эту газету, причем бесплатно, за что можно сказать большое спасибо местной власти, не забывающей о культурно-читательских и бытовых запросах населения.
А объявление было странным. Вот, пожалуйста, судите сами: «Клиника современной медицины «Асклепиус» профессора Петра Ильича Бехтерева (телефон, адрес) рассмотрит кандидатуру мужчины до тридцати пяти лет с высшим химическим или химико-технологическим образованием на должность ассистента. Должностной оклад от ста пятидесяти тысяч» Странное объявление, верно? Совсем непонятно зачем профессору медицины ассистент с таким образованием? Это как-то насторожило! Не совсем понятно – «должностной оклад от ста пятидесяти тысяч». Но это как-то привлекло! И совсем уж мне показалось странным то обстоятельство, что не требовалось высылать никаких резюме, характеристик, отзывов и копий документов.
Мне всё подошло один в один: я и химик-технолог, и я «… до тридцати пяти». Но что-то здесь не то.
Сомнения терзали меня пока не вмешался alter ego – второй «Я», который заявил в мозг: – Чё сомневаешься? Позвони и всё прояснится. – Логика была железной, я решился и позвонил по указанному телефону. Мне ответила женщина, немного попытала меня по пунктам моей биографии и назначила время для прибытия в адрес. Я, естественно, посмотрел адрес на карте. Клиника располагалась на Пятницком шоссе за городом примерно в десяти километрах от МКАД.
Так, вот она – моя остановка! Я вышел из автобуса и сориентировался: ага! Двигаться надо по ходу автобуса. Дождь, слава богу, кончился и я спокойно двинулся вперед, прошел метров двести и вот он – нужный мне номер на коричневом заборе из профильных листов, такая же калитка с домофоном и автоматические ворота. За забором и метрах в двадцати от него виднелись окна второго этажа и металлочерепичная крыша среднего по размерам особняка с неоновой вывеской «Клиника Асклепиус».
Я приехал на двадцать минут раньше назначенного срока, и потому решил из любопытства глянуть на особняк с тыла.
От проходящей на задах особняка и параллельно Пятницкому шоссе улочки территорию клиники отделял такой же металлический забор, с такими же воротами, калиткой и домофоном. Обойти особняк кругом оказалось невозможно, поскольку с другой стороны прохода между клиникой и соседним домовладением не было. Пришлось вернуться назад тем же путем.
Время подошло, я нажал кнопку домофона, назвал свою фамилию и тут же услышал: – Проходите, – и щелчок открывшегося замка. Я человек верующий и потому прежде чем зайти перекрестился и сотворил мною придуманную молитву «О даровании удачи рабу божьему Николаю», после чего зашел, закрыл за собой калитку и, оглядываясь по сторонам, двинулся по плиточной дорожке к дому. На небольшой площадке за воротами расположилась автостоянка с нехилым автомобильным набором: «Инфинити», «Лексус», «Камри». Слева и справа от дорожки и автостоянки все свободное пространство было занято ухоженным газоном с яркими цветочными клумбами. У правого крыла особняка красовалась «Альпийская горка» с беседкой и за ней яблоневый сад с провисшими от плодов ветками.
Поднявшись по мраморной лестнице, я подошел к стеклянной двери, она была открыта, и вошел в просторный холл. Тотчас откуда-то появилась миловидная женщина средних лет и сказала: – Пойдемте, я провожу. Профессор ждет вас.
Кабинет профессора располагался на втором этаже. Женщина подвела меня к двери, постучала, открыла и рукой показала, мол, входите.
– Да, да, входите, – предложил мне голос приятного низкого тембра, раздавшийся из глубины помещения. Шторы на окнах кабинета были задернуты, создавая полумрак, и потому я не сразу разглядел человека, расположившегося за массивным письменным столом.
– Здравствуйте, присаживайтесь. Я Бехтерев Петр Ильич, – блеснув стеклами массивных очков представился хозяин кабинета и рукой указал мне на стул за приставным столом.
– Здравствуйте, я Семенов Николай Иванович, – ответно представился я, занял предложенное мне место и со словами «это мои документы» пододвинул папку в сторону хозяина кабинета. Тот придвинул папку к себе в ярко освещенный от настольной лампы круг, раскрыл ее и достал листы автобиографии: – Так, так! Семенов Николай Иванович, так, так, двадцать восемь лет, хорошо…
Пока профессор читал мою нехитрую автобиографию я, пообвыкнув в кабинетном полумраке, принялся исподволь рассматривать его.
Вы помните Березовского Бориса Абрамовича? Его, по-моему, до сих пор все помнят. Так вот! Если бы я не был уверен в том, что Березовский за тридевять земель отсюда, в некоем царстве – Британском государстве, не подвис в своем замке на собственном шарфике, я подумал бы, что сейчас за столом передо мной сидит именно он! Только постарше – лет шестидесяти. И если тот всегда вызывал у меня неприятие, то этот пробудил интерес таким необычным сходством. Внешнее сходство было поразительное: и лысина, и брови, и разрез глаз, и шнобель, и это сходство просто толкало к мысли: «Да какой же ты Бехтерев?»
Из курса оперативной психологии я помнил, что, если один человек порождает в другом всплеск эмоций и знает, что именно вызвало этот всплеск, то с большой степенью вероятности он может угадать и мысли своего визави.
Вероятно, нечто подобное случилось и с нами, потому что профессор оторвался от чтения, поправил съехавшие к кончику носа очки, пристально посмотрел на меня, чуть улыбнулся и сказал: – Да, вы правы! Моя настоящая фамилия Бехтергольц, я сменил фамилию еще в советское время. Вы молоды и не жили в те времена, и потому вряд ли поймете меня, но тогда я посчитал это оправданным действием. Сейчас другие времена и можно бы и вернуть настоящую фамилию, но это, понимаете, никому не поручишь, а мыкаться самому по инстанциям…нет, нет!
Надеюсь вы…э… Николай Иванович, не заражены антисемитизмом?
– Н-нет, я сторонник формулы известного писателя Юрия Игнатьевича Мухина: «Не каждый еврей – жид, не каждый жид – еврей», – ответил я и зачем-то добавил, – но я…м… скверно отношусь к олигархам, сбежавшим из страны с большими деньгами.
– Таки только к евреям-олигархам скверно относитесь? – быстро последовал вопрос.
– А… а разве есть другие? – слегка притупил я.
– Есть! – коротко ответил профессор и с интересом воззрился на меня.
– Нет, нет! – поспешил я, – конечно, ко всем, а не только к евреям…э… скверно отношусь.
Профессор усмехнулся: – Ну, так вот что я вам скажу: вы их, олигархов, которых называют не пойми почему беглыми, не судите очень строго! Уверяю вас – никто из них с мешком денег за спиной и пистолетом в руке болотами через финскую границу не прорывался и в утлой лодчонке не загребал через Черное море в Турцию.
Деньги свои нажитые непосильным трудом они переводили на запад легально и уехали туда не по поддельным, а по вполне официальным документам, не скрываясь, и с чувством собственного достоинства. Они воспользовались свободой. Кто им предоставил такую свободу – вопрос другой! Так – то, молодой человек!
«А ведь он прав! – подумал я, – но, если власть дала им возможность обзавестись капиталами и уехать из страны с оху…с огромными бабками, тогда на кой черт их потом в розыск объявлять? Да, умом Россию не понять, твою черта душу мать!»
Профессор задумчиво повторил: – Так говорите: «не каждый еврей – жид, не каждый жид – еврей?» Занятно, занятно!
– Это не я говорю, это Мухин! Помните такого? Он издавал патриотические газеты «Дуэль», «К барьеру», но власть не очень его жаловала!
– Да, да, – задумчиво начал профессор, – быть патриотом в России – это вовсе не значит быть обласканным властью…Отвлеклись мы, однако, – и уткнулся в мои бумаги.
– Так, так! Николай, вы указали тут, что в течение трёх лет служили в Вооруженных Силах России. Поясните, пожалуйста!
– Да! В вузе у нас был ВУЦ – военно-учебный центр. По окончании обучения сразу после присвоения мне офицерского звания минобороны предложило мне заключить трехлетний контракт для прохождения службы за рубежом на очень привлекательных условиях, да еще на побережье Средиземного моря. И я согласился.
Профессорское лицо изобразило вопросительное удивление, и я пояснил:
– Дело в том, что я поздний и единственный ребенок в семье. А когда я перешел на третий курс, мои родители вышли на пенсию. Никаких существенных накоплений у родителей не было, а жить на пенсию, да еще кормить, обувать и одевать взрослого обалдуя, это, знаете ли… В общем, эти последние три года обучения я вертелся и крутился на всяких подработках как мог, и уже тогда решил, что пойду служить по контракту. Я рассчитывал, что смогу и родителям помогать, и для себя немного собрать на первое время будущей гражданской жизни. А уж когда мне сказали, что моя гражданская специальность потребна для службы по контракту в разведотделе бригады, я даже обрадовался и, можно сказать, возгордился. Разведка, контрразведка – эти слова будоражат воображение…
– У вас, Николай, есть специальная оперативная подготовка?
– Да как вам сказать? Я прошел двухмесячные курсы для военнослужащих разведподразделений прямо по месту службы. Вот и вся подготовка.
– Хорошо. Так, так! – Профессор снова уткнулся в мои бумаги, пошуршал ими и спросил: – Вы указали в анкете, что некоторое время работали в ОАО «Газтехнология». Как вы туда попали и почему, собственно, ушли?
Несмотря на неоднозначную внешность профессора, в нем было что-то располагающее и, видимо, поэтому я, всегда считавший себя человеком несколько замкнутым и зажатым, почувствовал внутреннюю раскованность и неожиданно для себя вдруг залепил: – Студентом третьего курса химико-технологического института я обрел мечту! Да, мечту!
На моё эмоциональное вступление профессор отреагировал легкой снисходительной улыбкой, которую я расшифровал так: «мол, знаем мы какие мечты у молодого оболтуса студиоуса: машина «Бентли» или «Брабус», на карточке десять миллионов с гаком, две-три красотки с безотказным трахом и, непременно, одним махом! И чтобы весь этот набор сразу! –И я быстро, словно опровергая его предположение, продолжил: – Да, обрёл мечту! Материальная составляющая, конечно, тоже в ней присутствовала, но не была главной!
– И что же это за мечта такая? – живо и заинтересованно спросил профессор и при этом состроил такое лицо, что я непроизвольно рассмеялся и поспешил сказать: – Нет, нет, не думайте, что я размечтался перевернуть мир во имя всеобщего блага и братства! Упаси бог! Всё гораздо проще и приземлённей. Речь идет о новом методе переработки природного газа!
– Так, так! – Профессор поощрительно постучал подушками пальцев по столешнице.
– Вы знаете, – продолжил я, – что из природного газа можно получить десятка полтора полезных продуктов: сжиженный газ, метанол, полиэтилен, пластмассы, ткани, меха, удобрения, топливо, технические масла, краски и так далее, и даже чистый водород! Технология получения каждого из этих продуктов известна. Новизна нашего метода заключается в том, чтобы объединить эти технологии в одном модульном заводе и запускать в нем производство тех товаров, в которых есть нужда в данный момент времени и в данном месте. И уж совсем конечная цель – это производство модульных заводов разной мощности для разных регионов России с учетом их специфики. Территория у нас огромная, все трубами не перекроешь. А вот поставить модуль около трубы, а потом развозить продукты переработки по долам и весям по их потребностям и проще, и экономичней. Согласитесь, газ как сырьё для переработки, и тот же газ как источник энергии для модульного завода – это смотрится заманчиво! Кто первый решит эту задачу – тот будет на белом коне!
У нас на факультете даже образовалась группа энтузиастов из состава третье – и четверокурсников во главе с Кузнецовым Александром. Я о нем сейчас говорю, потому что по окончании службы в армии я его нашел, и он взял меня на работу и даже создал фирму ОАО «Газтехнология». Учредителями этой фирмы стала компания «Редмет», принадлежащая Кузнецову, и фирма его компаньона – Зельмана – ООО «Прогресс».
– Позвольте, Николай, – прервал меня профессор, – так идея ваша?
– Моя!
– А скажите, Николай, в «Газпром», «Роснефтегаз» или какую другую профильную организацию вы со своей идеей обращались?
– Нет!
– Почему же?
– Профессор, представьте, что я заявился в «Газпром» и, давайте поверим, что сотрудник низшего звена этой организации не только выслушал меня, но и проникся этой идеей. Проникся и пошел к своему начальнику, то есть двинулся вверх по вертикали. В «Газпроме» четыре тысячи человек и вертикаль там космическая. И я туда не пошел, потому что посчитал свои шансы добраться до космических высот нулевыми. И тогда я решил, было, направиться прямо в аппарат президента, дело-то серьёзного масштаба, если выгорит. Но узнал, что там аж три с лишним тысячи человек и, стало быть, тоже вертикаль ого-го! И не пошел.
Мысль изложить всё в письменной форме и отправить почтой я тоже отверг.
– Хм! Почему же? – спросил профессор.
Я начал издалека: – Вы же знаете, профессор, как нагло грабят население телефонные мошенники? Миллиарды уходят к хохлонацистам! А когда на триста миллионов нахлобучили нашу известную певицу…
Профессор рассмеялся: – Вы озаботились ее горем?
– Я, гм, озаботился…э… безобразием! Как будто мошенники сами по себе, а МВД само по себе, господи прости! В общем я написал письмо в МВД и предложил, чтобы к тому баснословно дорогому оборудованию, которое по «закону Яровой» «пишет» нас, подключили ИИ (искусственный интеллект), чтобы ловить звонки мошенников через випиэн, анализировать и выделять те, где бабушки и дедушки клюют на приманку мошенников. А иначе нахрен он нужен – этот ИИ? Преступники ИИ используют вовсю, а мы только фейсэблом щёлкаем. А про оборудование Яровой ваще молчу? А так бабулька, к примеру, клюнула и пошла на поводу у сволочей. Но ведь ей надо снять деньги со счета и или перевести на счет мошенника в России, или встретиться с ним и отдать деньги, а это требует какого-то времени. А тут, бац, сработал ИИ, а потом, бац, и вот он – оперативник! И хана мошеннику! А еще я предложил, мол, пока будет настраиваться оборудование Яровой, да пока к нему присовокупят ИИ, действовать старым и проверенным методом.
– Это каким же? – удивился профессор.
– Ловлей на живца! Бросить все возможности МВД, «Наших», Народный фронт, волонтеров и партию «Единая Россия» вместе с оппозицией на подготовку спецбабушек и спецдедушек в своём окружении. И это должно сработать!
Между нами говоря, особые надежды я связывал с партией «Единая Россия» и, отдельно, с ее Генсоветом! У них богатых бабушек и дедушек вдосталь!
– Грандиозно! – профессор даже похлопал в ладоши, – и что же вам ответили?
Я вздохнул: – Поблагодарили за активную гражданскую позицию.
Профессор рассмеялся: – А вы чего ожидали, батенька? Что вас пригласят в Кремль, вручат генеральские погоны и скажут: – Действуй, Николай Иванович, надежда наша, спаситель и светоч наш! Вы этого ожидали?
– Н-нет,– промямлил я, встрепенулся и залепил, – но за державу обидно! За тупость нашу и беспомощность!
– И мне обидно, – согласился профессор, – и вы поэтому, получив такой ответ, не стали обращаться в инстанции письменно?
Я кивнул головой, а профессор вдруг спросил: – А кстати! Вы уверены, Николай Иванович, что эту…э… певицу, которую, по вашему выражению, нахлобучили на триста миллионов, действительно нахлобучили?
Я так растерялся, что даже не нашёлся что ответить, а профессор покачал головой: – То-то! Тёмное это дело, тёмное!
Однако вернёмся к газовой теме! Продолжайте!
– Да! Так вот! Для начала мы решили попробовать создать автономный опытно-промышленный модуль для производства сжиженного газа, топлива, технических масел и удобрений…
– Понятно! А потом на белом коне в «Газпром»? Так? – улыбнулся профессор.
– Не исключено. Там видно будет!
– Автономный – то есть без внешнего энергообеспечения? Я правильно понял? – спросил профессор.
– Да! Электроэнергию будет вырабатывать газогенератор! Никаких внешних подводов не требуется.
– Гм. Занятно, занятно! Ладно! И что же пошло не так? – спросил профессор.
– Поначалу всё шло хорошо! Мы нашли и арендовали помещение и даже закупили часть оборудования. Оборудование для модуля закупалось на кредитные средства. Оборудование довольно дорогое, но мы рассчитывали выкрутиться за счет перекредитования. Но Центробанк резко взвинтил процентную ставку из-за чего учредители: «Редмет» и «Прогресс» зашатались, и какое уж тут перекредитование по таким драконовским ставкам, и потому Кузнецов и Зельман вынужденно объявили о банкротстве дочерней «Газтехнологии». Я же стал безработным. Вот такие дела.
– Да, вот такие дела, – медленно и с отсутствующим видом повторил профессор. Его взгляд уплыл куда-то за окно и тут вдруг я с изумлением услышал, как профессор, отбивая по столешнице пальцами такт, тихо, но с душой спел: – Мечты сбываются и не сбываются и что за жизнь без мечты! – Затем глянул на меня, пробормотал: – Гм, да, – и стал молча складывать мои бумаги в папку. Я это понял как отказ, встал и протянул руку, чтобы забрать документы, но вдруг услышал: – Арнольд, зайди! – Тотчас в дверь постучали и в кабинете возник выше среднего роста и спортивного телосложения мужчина лет так под сорок, светловолосый, сероглазый и приятнолицый.
– Знакомьтесь, – хозяин кабинета, глядя мне в глаза, указал рукой на вошедшего мужчину, – мой заместитель и по совместительству кадровик Арнольд Моисеевич. А этот молодой человек, – кивок профессорской головы в мою сторону, – соискатель – Николай Иванович. Я думаю он подойдет нам. Ты, Арнольд, введи Николая Ивановича в курс дела и, если он согласится – подготовь приказ. Идите! – С этими словами профессор отдал мою папку Арнольду и махнул рукой.
Мы покинули кабинет профессора, в коридоре мужчина протянул мне руку и сказал: – Ну, что ж! Давайте знакомиться: Катетерман Арнольд Моисеевич. – Вероятно в кабинете профессора я получил какую-то прививку против демонстрации удивления, потому что я и бровью не повел, хотя про себя подумал: «Как прав Антон Палыч Чехов, который говорил, что нет такого слова, которое евреи не могли бы использовать как фамилию. А тут еще и по теме!» – А еще у меня в голове проскочило: «Надо же! А случай-то обратный: с такой славянской внешностью и нате вам – Катетерман!»
– Нам сюда, в моё логово, – Арнольд показал рукой на соседний кабинет. Этот был и раза в два поменьше и обставлен как кабинет врача в районной поликлинике: стол, комп, тахта, ширма, раковина, холодильник и вдоль стены стеллаж с какими-то медицинскими принадлежностями.
– Садитесь, Николай Иванович, вот сюда на тахту, – предложил хозяин кабинета, устраиваясь за столом, – у вас, конечно, есть вопросы, но вы их зададите чуть позже. Ваш разговор с профессором я слышал по селекторной связи, да – у нас есть эта старенькая, но простая и надежная техника, да, так вот он ничего не сказал вам о ваших, так сказать, служебных обязанностях, передоверив это мне.
А знаете, Николай Иванович, я очень смеялся, когда вы рассуждали про «Газпром» и аппарат!
– Что же тут смешного?
Ну, как же! Вы туда не пошли, сюда не пошли, а пришли на Поле Чудес!
– Какое еще Поле Чудес? – возбух я.
– Такое! Ну, значит, так – Поле Чудес!
Глава II. Поле Чудес.
– Ну, значит, так, – повторил Арнольд и усмехнулся, – прошу пожаловать на Поле Чудес! Наш «Асклепиус» и есть это самое Поле Чудес. И вот первая заповедь Поля Чудес –ничему не удивляться и никуда не лезть. Вторая – держать язык за зубами относительно всего, что вам станет известно о наших пациентах. Поясняю, чтобы у вас не было черных мыслей, это требование этического порядка, поскольку «Асклепиус» – это медучреждение.
«Асклепиус, «Асклепиус», – с загадочной улыбкой произнес Арнольд и продолжил, – какие типажи! Здесь вы встретите и Карабаса Барабаса, и Дуремара, и папу Карло, и Мальвину, и других сказочных персонажей и не только из этой сказки, но и из многих других. И, возможно, узнаете владельца пресловутого «Золотого ключика» и где находится дверь …э… которую все ищут. И не только в сказке! А еще…
– А профессор кто в этом театре? – не очень вежливо прервал я Арнольда и мрачно закончил, – и кто буду я?
Арнольд рассмеялся: – Профессор – он многолик: он и Карабас Барабас, и доктор Айболит, он и Гобсек, он и Бертольд Шварц, его можно отнести и к волхвам – кудесникам, и он же чуть-чуть мать Тереза. А вы – вы Николай Иванович, будете ответственным за то, чтобы наш «Асклепиус» – он же театр Карабаса Барабаса – функционировал без сбоев.
– Что-то вроде зама по тылу, если говорить военным языком? Я правильно уловил? –спросил я.
– Очень, очень правильно уловил! – обрадовался Арнольд, – только с поправкой: иногда надо будет выполнять, скажем так, несколько специфические поручения профессора. Сразу вас успокою: закон преступать вам не придется и принуждать к этому вас никто не будет. – Арнольд немного помялся и сказал: – Касательно закона. Надеюсь вы понимаете, Николай Иванович, что есть рамки закона и есть грани закона, и это далеко не одно и то же?
– Значит, зам по тылу и ординарец по особым поручениям? Так что ли?
– Вот! Очень, очень верно сказано! – обрадовался Арнольд.
«Темнит что-то блудослов Арнольд, темнит, – подумал я, – но с другой стороны выбор-то у меня невелик, надо решаться» – Мой alter ego – второй «Я» – решительно зарядил прямо в мозг: – Чё тут думать? Соглашайся!
– Зам по тылу, так зам по тылу! Ординарец – так ординарец! Я согласен! Так с чего мне завтра начать?
– Вот и хорошо, что согласен, и что сразу готов взять быка за рога тоже хорошо! Но для начала давайте я познакомлю вас с нашим небольшим хозяйством – тылом, так сказать! Пойдемте! И, кстати, раз уж мы с этого момента коллеги, то предлагаю перейти на «ты».
– Принято, – согласился я.
Арнольд усмехнулся и слегка хлопнул себя по лбу будто что –то вспомнил: – Кстати, хочу поздравить тебя, Николай!
– Хм! С чем же?
– Теперь, когда ты влился в наш небольшой коллектив, профессор будет одаривать тебя эпитетами «голубчик, батенька» или называть Коленькой. У него эти слова звучат как-то особенно.
Мы вышли в коридор и подошли к следующей двери.
– А вот здесь, Николай, твоя штаб-квартира, – Арнольд толкнул незапертую дверь, и мы вошли внутрь, – видишь, кабинет точно такой же, как и мой. А вон там, – мы опять вышли в коридор и Арнольд показал рукой, – вон там за кабинетом профессора расположены две гостевые комнаты. Мы туда заходить не будем, ничего там интересного нет, а пойдем вниз.
По красивой деревянной лестнице мы спустились на первый этаж и Арнольд начал показывать: – Та–ак! За этими дверями две стандартные одноместные больничные палаты. Идем дальше. Здесь операционная, а это ординаторская, а вот здесь царство операционной сестры. Там дальше и в торце кухня и столовая. Теперь сюда, ага, сюда. Вот лестница в цокольное помещение. Рядом с лестницей вот оно – помещение аппаратной с компьютером и зонами наблюдения внешних и внутренних камер. Это, кстати, тоже зона твоей ответственности. Ну, пошли.
По каменной лестнице мы спустились вниз.
– Та-ак! Здесь можно сказать котельная – газовое отопительное хозяйство с двухконтурным котлом, установка для очистки воды и разводка отопительной системы и горячей и холодной воды. У нас есть колодец, но года два назад мы подключились к поселковому водопроводу. Водопровод – это вещь! Идем дальше. – Мы сделали по коридору несколько шагов и попали в бетонный бункер в полтора человеческих роста и размером примерно десять на десять метров.