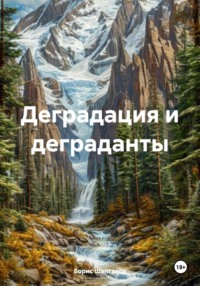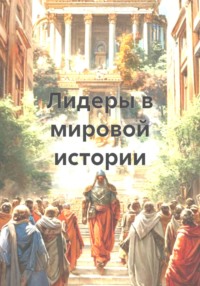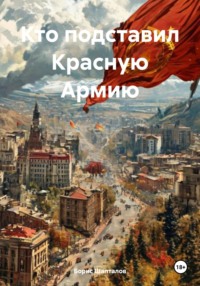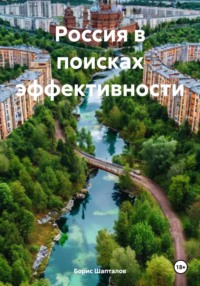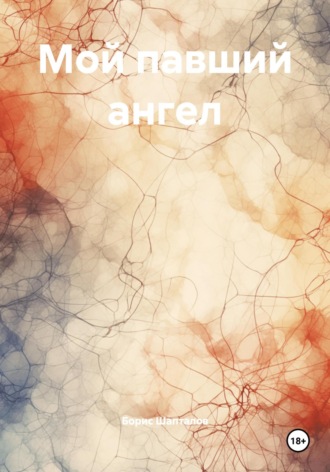
Полная версия
Мой павший ангел

Борис Шапталов
Мой павший ангел
Лучше горсть с покоем, нежели
пригоршни с трудом и томлением духа
Экклезиаст
Пришествие
1
Ранним утром постучали. Я с трудом открыл один глаз и прислушался. Странно, но с одним глазом почему-то слушалось легче. Понять который час было невозможно, – будильник надежно затаился в сумерках. Хотелось в ответ на провокацию повернуться на другой бок и… Постучали опять. Настойчиво, но не грубо-требовательно: «Мол, за вами пришли…» Я бы не открыл, я вообще не понимаю тех, кто по первому звонку бросается к телефону или к двери, даже если у него под боком лежит преприятнейшее создание. Моя позиция проста: «Тебе это надо?» – «Нет». – «Надо кому-то другому?» – «Да». – «Вот если кому-то тебя надо, то он найдет время позвонить еще раз». Бегать на ранние звонки меня отучила одна болезная старушка. Регулярно в течение нескольких лет звонила в восемь-пол-девятого и спрашивала: «Это поликлиника? Мне врача на дом». Я сначала произносил свое «нет» вежливо, потом с подчеркнутой холодностью. Перепробовал все виды металла в голосе. Затем стал просить набирать тщательнее, черт возьми. Долго объяснял, что набираемый ею номер телефона – квартира, а не поликлиника. Старушка не верила! «Я звоню по этому номеру уже много лет». После чего я перестал брать трубку по утрам. Через полгода шум стих. Наверное, померла с досады, что молодые вертихвостки в регистратуре вечно где-то шляются… Вставать не хотелось еще и потому, что в комнате было довольно прохладно. Все-таки февраль на дворе. Одеяло же теплым, благодатным компрессом ласково плющило к простыне. Как приятно в дремотном состоянии паковаться, поджав ноги и досматривать благожелательный сон… Постучали еще раз. И тут я проснулся. Разом. Оторопь, оказывается, действует не хуже ополаскивания холодной водой. Еще бы не оторопеть: стучали не в дверь (тем более она со звонком), стучали в окно. Что за черт? Я живу на девятом этаже! И стучала явно не птица. Стучали по-человечески – осмысленно.
Закутанный в одеяло, я протрусил к окну.
С улицы просился в дом мерзнущий ангел…
2
– Ты чего такой веселый; в лотерею пол-литра выиграл? – спросила Эльза.
Я засиял еще больше.
– Может быть, и даже возможно много больше!
– Буду ждать угощения.
Эльза Ивановна – единственный человек на работе, с которым (и с которой) у меня по-настоящему хорошие, ровные товарищеские отношения. Энное количество лет назад у нас случился рядовой во всех отношениях роман. Он закончился довольно быстро путем мерного сгорания слабомощного горючего материала, оттого и претензий никто не предъявлял. Не сговариваясь, мы никогда о нем не вспоминали и между нами установились сбалансированные отношения многоопытных людей.
Я же пришел в институт именинником, готовый лопнуть от желания: а) поделиться случившимся, б) похвастаться обретенной удачей, в) сказать кому-нибудь устало: «Конечно же, замолвлю словечко». А вы бы разве не испытывали те же чувства, если б к вам прилетел настоящий ангел?
Пока ехал на работу, стиснутый в автобусе рядовыми гражданами, в числе которых недавно числился и я, представлял себе пресс-конференцию. Я, в этакой яркой белизны рубашке, дорогом галстуке (но не броском), подтянутый, хорошо подстриженный (у меня такой непокорный волос, что в парикмахерской часто меня не стригут, а обстригают, как газонную траву), весь из себя остроумный.
– Мистер Горенкофф, скажите, пожалуйста, что ел на завтрак Ангел?
– Ничего не ел. Ему не надо. От такого гостя большая экономия.
(Смех в зале.)
– Выставите ли вы свою кандидатуру в президенты, как отмеченный божьей благодатью?
«А почему бы нет? – подумалось мне самонадеянно. – Чем отличается правитель от простого человека? Правитель делает ошибки за чужой счет, а простой – за свой. Правитель имеет возможность исправлять их, не жалея государственных средств, а простые люди – только за свои кровные. Правитель благодаря усилиям госаппарата оставляет противоречивую память о себе, как индивид, пытавшийся сделать жизнь лучше, а мы можем радоваться за себя, если выкрутимся без всякой благодарности от родных и близких. Так почему бы не пожить в режиме наибольшего благоприятствования?» Но тут мне пришла иная мысль. Президента избирают на короткий срок, а у меня случай особый. Соответственно, журналист спросит иное:
– Вы согласитесь выставить свою кандидатуру в Папы Римские, как о том просит прогрессивная часть синклита?
– Я подумаю. Поступило предложение от съезда движения «Горенков – ты наш Бог!» Может быть, придется создавать новую обновленческую церковь. Реформы, в общем-то, назрели.
– То есть Ангел спустился к вам, чтобы указать на вас как на Мессию?
Стоп! Вот об этом я и не подумал. Шутки шутками, а вдруг и вправду Он спустился ко мне с тайной миссией подготовить меня к мессианству? Вот это да!
Но почему выбор остановлен на мне?
Я мысленно обозрел свой трудовой и прочий биографический путь. Родился в семье служащих. Пошел в школу. Учился средне. Окончил школу, поступил в институт. Учился средне. Окончил вуз. Сменил несколько мест работы, пока не прибился к Университету экономики, права и менеджмента (У-Э-Пэ-Эм). На деле же это обычный средний институт, но в годы сплошной либерализации, вестернизации и идиотизации, сменившей годы сплошной бюрократизации, интернационализации и все той же идиотизации, его, как и все вузы, переименовали в университет (был другой оригинальный вариант – именовать академией). Но я называю его тем, чего он реально стоит – институтом. Что еще? Высидел положенный срок в ассистентах и поступил в аспирантуру. Написал диссертацию, название которой неудобно произносить. Так… небольшая тема, интересная лишь аспиранту и научному руководителю. Получил степень кандидата наук. Вернулся на родную кафедру старшим преподавателем. Через два года дали доцента. Всё, потолок. Путь тысяч и тысяч. Прямо скажем – не мессианский путь. Тем более что религией особо не интересовался. Во всяком случае, мои познания в этой сфере не выходят за пределы типичного агностика (так теперь именуют себя атеисты; называться как есть стало немодно, не карьерно, а в отдельных районах страны и опасно).
В таком состоянии духа я проехал еще пару остановок и решил, что зря себя так низко ставлю. Внешняя сторона личности не отменяет ее внутренний мир. Утверждают же – человек – это Вселенная, и на этом основании сердобольные лица требуют отменить смертную казнь. (Правда, я к смертной казни отношусь положительно: святое дело устроить вселенной серийного убийцы апокалипсис.) Итак, раз даже у преступников есть свой необъятный сакральный мир, значит, и у меня найдутся свои глубины, скрытые возможности, в том числе потенциальная перспектива взорваться сверхновой звездой! Может я, фигурально выражаясь, сидел на печи тридцать лет и три года, чтобы, наконец, повстречать того, кто скажет: «Встань и иди, ибо ты Мессия!» Да и Иисус проявил себя, когда ему было уже за тридцать, и пророк Мухаммед объявил о своем прозрении в зрелые годы. Наверняка и Заратустра не с юных лет своей философией людей потрясал. К таким делам надобно созреть, как хороший коньяк. Пора…пора… Тем боле, что неотвратимо подступает тот возраст, когда выясняется, что все любимые тобой блюда вредны для пищеварения и все что ни делается – делается к ухудшению здоровья.
От таких мыслей сделалось вновь приятно. Да что там «приятно»! Почувствовал, как поднимается новая волна эйфории. Прежде всего, надо завести дневник и регулярно заносить туда резюме своих бесед с Ангелом. В последующем летопись будет обнародована и, разумеется, произведет сенсацию. Шутка ли: «Откровение от Ангела»! Новейший Завет! И впрямь пора. Человечество катится в пропасть. А тут эра Водолея наступила. 2001 год! Короче, самое время открыть новую эпоху новым заветным откровением. Я представил себе читательские пресс-конференции, встречи с иерархами всех мировых конфессий, рауты с миллиардерами, которым надо очиститься перед неизбежным, как выяснится, прохождением через игольное ушко. Далее, написание автобиографии под дурашливым рабочим названием: «Как я докатился до жизни такой». Что еще? Ну, там поклонницы, этакие Марии Магдалины косяком. Правда, будут напирать в изобилии и богомольные старушки, просящие мое благословение. Ну да издержки в любом крупном деле неизбежны. Христа вон так даже распяли…
Протрезвел я, впрочем, быстро, как только представил себя в редакции газеты с сообщением, что я лицезрел Ангела. Если и выслушают, то попросят доказательства. А какое я могу представить доказательство? Фотографии? Даже если умудрюсь тихонько его снять – ибо вряд ли Ангел согласится позировать мне, расправив крылышки – скажут: на снимке ряженый. Со мной Ангел, конечно, тоже никуда не пойдет, чтобы доказать подлинность запечатленного. Да-а, на небесах все точно рассчитали. Мне придется молчать. Иначе, если буду настаивать на видении, нарвусь на интервьюера в белом халате. Слава богу психиатров во времена галилейского и мединского пророков не было, а то бы им обвинение в шизофрении не избежать, и не родились бы мировые религии. Вот парадокс современного мира: люди ждут Мессию, а Он может проповедует в скорбном доме между уколами успокоительного… Нет, нужна какая-то иная стратегия действий. А еще в глубине души я (а если честно: не на такой уж и большой глубине) надеялся, что общение с Высшим Разумом так обогатит и разовьет меня, так скажется на моем интеллекте, что это станет заметно всем. И потом, в конце жизни (тут меня опять понесло) я, убеленный сединами академик, мэтр с международным признанием, сообщу удивительную тайну, и никто уже не посмеет усомниться и посчитать, что я сбрендил.
Оговорюсь сразу: мой интеллект остался на том же уровне, что был до «контакта». Оказывается, как я понял из объяснения Ангела, гениальность не привьешь со стороны. Она либо есть, либо, увы, «товар пока не прибыл, заходите еще».
С таким двойственным настроением я пришел на кафедру. Но положительные эмоции, разумеется, перевешивали, что и отметила Эльза. Мы с ней поболтали с пяток минут, благо больше никого не было. Затем Эльза вышла, но вошла Любовь Олеговна.
В свои тридцать почти юных лет, неимением научной степени и привлекательной внешностью она была для меня Любой, временами – Любочкой. Я незамедлительно выплеснул избыток эмоций и на нее.
– Хорошо выглядишь, – констатировал я, наблюдая за процессом освобождения от пальто и сапог. – И с такой фигурой и хочешь избежать сексуального насилия?
– Как дам! – пригрозила Люба.
– Кому?
– Не кому, а как.
– А как ты даешь?
– Что за пошлые шуточки?
И Люба изобразила искусственное возмущение. Самой, небось, понравилось услышать приятное про фигуру. Что любопытно, при виде ее мне всегда хотелось сказать что-нибудь игривое. То, что Любе нравились мои пошлости, я не сомневался, а почему ответа найти не мог. И это при том, что она отнюдь не была вульгарной и не давала повода к такого рода наскокам. Чинная преподавательница в деловом костюме – юбка ниже колен, жакетик, блузка под горлышко, и однако ж… Наверное, изнутри в пространство излучалось что-то такое этакое, а моя антенна оное принимала. Если так, то фонило здорово.
– Телевизор тебя испортил, – с педагогической строгостью в голосе констатировала Люба. – Там такого юмора теперь полно.
– Ах, как верно замечено. То-то я смотрю, что мне все больше нравится то, что я смотрю. Всасывает…
И я сложил губы дудочкой.
– Да ну тебя.
И Люба отошла в другой конец комнаты. Я поплелся за ней.
– Можно тебя за ручку подержать?
– Можно.
– А за коленку?
– Арсений Константинович!
– Ну в чем разница-то? Часть тела… Тогда дайте тогда сироте на опохмелку.
– И много надо? – услышал я за спиной знакомый голос.
Люба, довольная, заулыбалась. Я же распрямил плечи, согнал дурацкое выражение с лица, и обернулся. Пал Палыч от дверей прошел к столу секретаря и положил какой-то документ.
– Это юмор такой, – объяснил я. – Современный уровень.
– Уровень студенческий или аспирантский? – поинтересовался Пал Палыч.
– Телевизионный.
– Значит, разрешено цензурой.
Приятно было созерцать завкафедрой в хорошем расположении духа и обладающего чувством юмора к современному юмору.
– Передайте, пожалуйста, Эльзе Ивановне, чтобы отпечатала и вывесила.
– Передадим, – пообещала Люба.
Пал Палыч давно достиг пенсионного возраста. За его спиной заинтересованные лица гадали, кто сможет занять святое место. Сначала кандидатур было предостаточно, но когда в 90-е годы перспективный народ рванул на более хлебные места, то выяснилось, что заменить Пал Палыча некем. Посматривали одно время даже на меня, но я дал понять – не мое! Руководитель по призванию – тот, кто умеет заставлять работать на себя (но во имя задач Организации, конечно). Плохой тот, у кого подчиненные работают на себя, а им прикрываются. Я из последних. О подчиненных надобно заботиться, но так, чтобы на рупь затрат получилось три отдачи, я же, по своему характеру, стану заботиться бескорыстно, и мне сядут на шею. Люди быстро соображают на этот счет. И Пал Палыч продолжает руководить, как незаменимый. И все довольны, ибо привыкли к нему и знают, что ждать от руководства. И Пал Палыч доволен, ибо не знает, что ему делать на пенсии.
Он отбыл, зато вошла Эльза. Она незамедлительно заглянула в бумагу, принесенную шефом.
– Сегодня на три часа назначено общее заседание кафедр.
– Вроде бы в плане не стояло.
– Внеочередное.
К трем дневные факультеты занятия заканчивали, так что внеплановому мероприятию ничего не угрожало.
– Наверное, будет утверждение плана научных работ, – предположил я. (У вора шапка горит. Таковой план мне нужно было составить давно, но он пока отсутствовал.)
Я оказался прав ровно наполовину. Речь шла о научной работе, но не в том разрезе, что я опасался.
Собрались в малой аудитории близ кафедры права. Всего в гуманитарном созвездии института (пардон, университета) значилось три кафедры – истории, права и философии. Это тридцать два человека, включая секретарей. Вел заседание наш зав. кафедрой – Пал Палыч. Он единственный среди заведующих кафедр доктор наук. К тому же старше всех. Семьдесят отметили два года назад. Он работал здесь едва ли не с основания института. Аксакал. Соответственно, ему чаще других среди руководителей среднего звена давали первое слов. И последнее тоже. Вот и в тот раз, он встал из-за стола-президиума (по правую руку – зав. кафедрой права, по левую – философии), пригладил лысину и сказал такое…
Есть выражение: «В зобу дыхание сперло». Наверное, только так можно выразить состояние присутствующих. Может, есть иные слова, но в тот момент у меня, во всяком случае, других характеризующих выражений не было, потому пишу, как есть.
– Зачем мы им? – спросила Эльза Ивановна.
Пал Палыч подумал мгновение, и высказал версию:
– Считают, что новые идеи можно найти в глубинке. Что есть в центре – им известно. Да и свет, знаете ли, говорят, придет с Востока…
Дальше начался отбор счастливцев…
«Наука»
1
Наука – удел тихих, самоуглубленных талантов и прибежище напористых амбициозных ремесленников. Последний случай – это когда отсутствие плодотворных идей компенсируется прилежностью или нарочитым литературным глубокомыслием. А что делать? Кандидатов и докторов наук намного больше, чем идей, поэтому приходится выкручиваться, пренебрегая «бритвой Оккама» и умножать без необходимости сущности. Чтобы занять в науке подобающее место надобно сначала овладеть принятой в доминантных кругах терминологией и выверенным набором идей: то, что раньше называли «парадигмой», а ныне «дискурсом». Дальнейшее зависит от пробивных данных и способности упаковывать наработанный кем-то материал в статьи и монографии, вписывающиеся в общепринятые в научной среде параметры. Среди этой массы соискантов есть те, кто собственно и двигает науку, – личности, способные генерировать идеи. Из «местных» таковым был, пожалуй, лишь доцент Разуваев, правда, давно уволившийся. Или мог им стать… Так вот, научный работник, способный выдвигать идеи, далеко не всегда проделывает результативную работу. Нужна «среда», в которой высекаемые искры способны зажечь горючий материал. Не менее важно довести озарившую наше скорбное сознание идею до ума, до стадии зрелой гипотезы или теории. Сырая, хромающая от недостатка аргументов идея, мало кому нужна, разве что другим, способным впитывать чужие мысли в качестве разгона собственных. Но какая научная среда в нашем провинциальном огороде? И кто тут способен оценить сырую идею? Один институт, переименованный по последней моде в университет, одно педучилище, по-американски названное колледжем (ум у нас заемный, оттого ничего своего придумать не в состоянии), вот и все прибежище «научных кадров». Бедные мы бедные. Хорошо, что не осознаем этого. Правда, сказано: «блаженны нищие духом…» Мы и блаженствуем.
Предложение на грант от зарубежного Фонда Поощрения Гуманитарных Наук по линии «помощи провинции» поступил в наш вуз в общем-то случайно. Могли такую помощь оказать и другому населенному пункту. Мало ли на карте кружочков, но вот попало сюда, к нам.
Пал Палыч зачитал условия конкурса на получение гранта. Фонд ставил следующую задачу: обосновать идею монографии, в которой бы рассматривалось под тем или иным углом авторского зрения взаимосвязь и конфликт исторического и надысторического, временного и вневременного, веры и неверия. Структура исследования и выводы – на усмотрение автора. Предваряющую концепцию требовалось изложить в форме реферата. В случае принятия тезисов будущей книги Фонд готов был финансировать двухгодичный академический отпуск грантополучателя в размере оплаты его труда в университете за этот период, а также заключить договор о сотрудничестве с кафедрой вуза.
Понятно, что значило для нашего среднего вуза такой подарок судьбы. Это сродни прилету инопланетян с предложением помочь аборигенам освоить новые технические горизонты. Удивительно также и то, что нам, простым преподавателям, объявили о конкурсе на получение гранта. Мы-то тут причем? Желающих на ниспосланный божий дар должно было найтись в достаточном числе в сферах, расположенных намного ближе к Олимпу, чем мы. Желающие, возможно, и нашлись бы, но… Сразу отпали кандидатуры заведующих кафедр – по возрасту соискатель гранта не должен быть старше сорока лет. Затем – женщины. Не из-за дискриминации, конечно. На Западе с этим строго. Просто женская половина у нас защищала свои кандидатские ради «хлебной карточки» – прибавки к зарплате и пенсии. Наукой они не занимались. Не было и гомосексуалистов, а значит и желанного на Западе угнетаемого сексменьшинства. И выяснилось, что осталось всего двое. Я и Никитин с кафедры права. Больше подходящих кандидатур не имелось. Остальные светлые головы давно удрали в бизнес и смежные с ним сферы. Мы с Никитиным переглянулись: вот так негаданно оказались соперниками.
Пал Палыч подбил итог.
– Я считаю, что Петр Николаевич (это к Никитину) и Арсений Константинович (это я) должны подготовить свои предложения и представить на наше обсуждение к следующему понедельнику. После чего решим окончательно, как быть.
На том заседание закончилось.
Сколько случайных событий в один день: явление Ангела, грант! А все вместе – у меня появлялся великий шанс! И скудость научных кадров провинциального института, где я имею честь работать, и залетный грант – все сработало на меня. Знак судьбы, не иначе. Вот только если ум у нас, как я метко заметил выше, заемный, то чем я лучше других? А значит, откуда мне взять свежие идеи, если их нет даже в Кремле, несмотря на тамошние возможности привлечь лучшие умы? (То был период общенационального поиска национальной идеи, закончившегося ничем.) Но все равно было приятно.
2
По окончания судьбоносного заседания сразу поехал домой. Когда подходил к дому, взяли сомнения: а вдруг Ангела уже нет, а был мираж? Правда, присниться он мне не мог. Я человек спиртным не злоупотребляющий, «травку» не курящий, и лаже не знающий, где ее достают. Шизофрения? С чего вдруг? Окружающие неадекватность приметили бы. И вот доказательство моей нормальности – предлагают попробовать получить грант. И все же…
Ко мне прилетел ангел. Абсурд! Даже верующие не поверят в такое. Причем прилетел почему-то не во дворец римского понтифика или местоблюстителя православной церкви, а в окно рядового агностика. Как это понимать?
Я вставил ключ в замочную скважину и резко выдохнул. В квартире было темно и тихо, а оставил его смотрящим телевизор. Так сказать, занял дорого гостя в свое отсутствие.
Я прислушался к тишине. Улетел? Растаял в пространстве…
– Я здесь…
Сказано было, будто в воздухе прошелестело. Не голосом произнесено, а словно импульсами, сжатием воздуха. Так он разговаривал.
Он (оно?) сидел (сидело) в зале на диване. Тело струилось. Мягким таким голубовато-зеленоватым водопадом света. Пахнуло прохладой, и я бы сказал умиротворением, если бы умиротворение пахло. Впрочем, может оно и пахнет. Новогодняя елка, усыпанная разноцветными лампочками, в темноте не только светится, но и умиротворенно пахнет.
Я прошел в комнату и сел рядом. Расстояние между нами было не больше полуметра. Но что-то происходило с пространством. Визуально я сидел рядом, а казалось – вдалеке. Во всяком случае, я точно знал – вытянуть руку и коснуться его не могу.
– Что вы делали на работе?
Я рассказал про грант и мои перспективы. Не скрою, ожидал, как в сказке: «Не кручинься, мол, братец Арсений, утро вечера мудренее, составлю тебе рефератик с новаторскими идеями…» Но Ангел промолчал.
Спросил: не мешает ли он мне? Мол, готов поискать другое место… Я горячо заверил в обратном.
– Утром я не сказал о причине своего появления. К сожалению, пока не могу сказать и сейчас. Прошу, занимайтесь своими делами, стараясь поменьше обращать на меня внимание. Отнеситесь ко мне как… к домовому или доброму привидению. Развлекать меня не надо. Я не просто сижу. В это время я занимаюсь многими делами. Просто вам их не видно. И хорошо, что не видно.
Ничего не оставалось, как принять эти условия. Я встал и пошел на кухню готовить ужин. Пока ел, думал о ситуации. И, кажется, понял, почему ангел прилетел именно ко мне. Человек я был не женатый, достаточно одинокий, в том смысле, что гостей водить не любил, кроме вполне определенных случаев. Не рвач, и застенчив до такой степени, что не буду просить устройства своих дел. Деликатен. Значит, не стану досаждать вопросами: «а как там у вас с…?». Что ж, просчитан я правильно.
Закончив с ужином, прошел в маленькую комнату, которая служила мне спальней и кабинетом. У окна стоял письменный стол, справа – заправленная и накрытая пледом тахта, слева книжный шкаф, на стене пара книжных полок, ближе к двери примостилась тумбочка, и в самом углу приткнулся узкий шкаф для мелких вещей. Я сел в кресло на крутящейся винтовой ножке, достал тетрадь и аккуратно вывел заголовок: «Дневник». Как историк я понимал значение исторического момента…
Дневник решил хранить на работе.
3
Надо было обдумать с чего начинать составление реферата, ибо, не начав, нельзя и закончить. Сам зачинающий вопрос был прост: где взять нетривиальные идеи?
Я оглядел корешки книг. Содрать что-либо полезное оттуда в данном случае не представлялось возможным: писать предстояло не диссертацию. Своих же дорогих и выношенных мыслей не имелось. Прислушался к телевизору. Узнал голос. Там мордатый экономист сытно рассказывал, что частная собственность лучше государственной, даже если прибыль с бывших советских заводов вывозится за рубеж в оффшоры. Мол, со временем эти миллиарды вернутся назад… Короче, ждите кукиш. Тут делянки заняты. Большинство так называемых гуманитарных «идей» – это, в сущности, разновидность специфически приготовленной лапши на уши для жаждущих нематериальной пищи. Судьбоносные идеи времен Горбачева стали здорово напоминать радости стервятников. Клекот их носителей ежедневно слышался в эфире. Но пора их уже проходила, и спекулировать на идеалах свободы становилось все труднее, как и доение ужасов сталинского режима. Запад откликался на недавно ходовые темы со все меньшим энтузиазмом. Что же в таком случае я мог им предложить интересного как историософ? Очередной пассаж про чересчур особый путь «этой» страны? А может быть пришла пора писать про «свет с Востока», как разновидности желаемого света в конце Западного туннеля, иначе с чего это они приперлись в нашу глубинку?
М-да, не мастер я художественного свиста.
Постепенно вызрела иная мыслишка – а не пойти ли мне в народ? Проще говоря, не сходить ли к Разуваеву? Бывший доцент работал ныне в городской администрации заведующим отделом образования, и хотя наука была ему уже не нужна, но косвенное отношение к ней в силу должности имел. Тем более что нашу агломерацию заметили в загранично-небесных сферах, вероятнее всего, в первый и последний раз. Так что шанс для города и отдела образования, в том числе был налицо. А вдруг мы толканем такие идеи, что наш даунтаун станет духовной столицей, вроде Гейдельберга или Кембриджа?