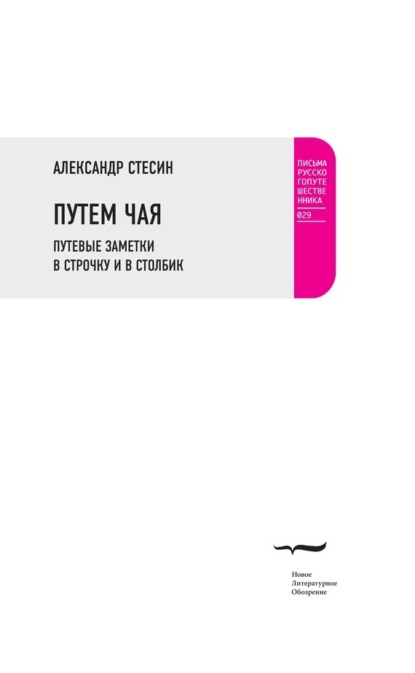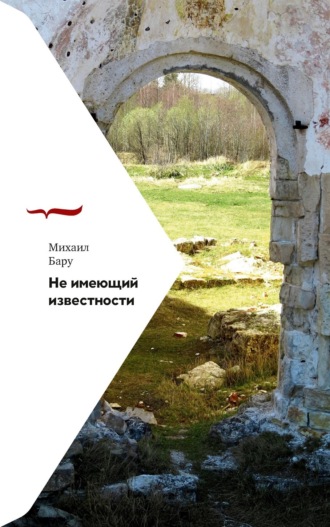
Полная версия
Не имеющий известности
Ее императорское величество переночевали в специально построенном для такого случая деревянном дворце на берегу реки Великой и укатили по дороге в Могилев осматривать новоприобретенные Россией земли, а Опочка осталась уездным городом Псковской губернии со всем, что полагается российскому уездному городу конца XVIII века, – городовым магистратом, дворянской опекой, уездным, словесным, сиротским, верхним и нижним земским судами, уездным казначейством, духовным правлением и даже огородническим управлением. Город был небольшим и лежал по обеим сторонам реки Великой. О размерах его можно судить по описанию Бутырского. Если сажени перевести в метры, то выходит, что длина той части, что лежала по правую сторону реки, была около 1600 метров, а ширина 850 метров. По левую сторону реки длина города была существенно меньше – около 700 метров, а ширина немногим более 300 метров. Если все эти длины и ширины умножить и сложить, то получается город, а вернее, городок площадью немногим более полутора квадратных километров, который можно обойти пешком часа за два-три или за четыре, если останавливаться и любоваться открывающимися видами.
На этих полутора квадратных километрах располагались, кроме обывательских домов, казенных учреждений и недостроенного Спасо-Преображенского собора, пять деревянных церквей, построенных в последней трети XVIII века: Николая Чудотворца, построенная на средства купца Михаила Викулина; кладбищенская церковь Святых Апостолов Петра и Павла, построенная на средства купца Степана Викулина; Святого Апостола и Евангелиста Луки, построенная на средства купца Данилы Порозова; Святого Апостола Фомы, построенная попечением священника Симеона Трефильева. Имелись в Опочке и две богадельни, построенные на общественные средства. Одна из них, как пишет Софийский, «для увечных и пропитания неимущих мужей», а вторая «для таковых же увечных и пропитания неимущих жен». Не забудем упомянуть и малое народное училище, открытое в 1787 году.
Первый историк Опочки Леонтий Автономович Травин так описывал город за два года до наступления XIX века: «Строение обывательских дворов было тесное, избы простые с волоковыми окнами и черными печами, улицы и переулки кривые. Вид онаго представлялся сущей деревней, как по подлому строению домов, так и что не было ни единые торговые лавки, и что священники и посацкие (купцов же тогда еще не было) жители, особливо женской пол сколь ныне не все опрятны. А тогда наипаче едва которые имели башмаки на ногах, большая ж часть обувались в лапти».
Купцы все же были. В описании Опочки и уезда, составленном по результатам генерального межевания в 1785 году, было сказано, что «жители в городе большею частию купцы и мещане, торг имеют разными шелковыми, шерстяными и прочими товарами не в одном городе Опочке, но и в других, закупают лен, пеньку, масло, мед, воск, юфть, которые отправляют в города С.-Петербург, Псков, Ригу, Ревель и Новгород до города Пскова, а от онаго водою и сухим путем, водою же по реке Великой чрез озеро Псковское полубарками, а женщины упражняются в домашних рукоделиях». Более всего торговали льном. К концу XVIII века десяток опочецких купцов отправляли лен и пеньку в порты Петербурга и Нарвы. Среди них выделялись Семен Барышников с капиталом в 20 000 рублей, Михаил Викулин с капиталом в 15 000, Аникей Слесарев и Данила Порозов с капиталами по 8000. Одиннадцать самых состоятельных опочецких купцов продавали в Риге льна и пеньки на 87 000 рублей.
В самой Опочке торопецкие купцы братья Побойнины завели в середине XVIII века торговый филиал, занимавшийся скупкой льна и действовавший двадцать лет. Четыре раза в год в городе устраивались ярмарки. Торговали мелочным товаром вроде различных шелковых и бумажных тканей и съестными припасами. Всего купцов насчитывалось пятьдесят два человека, а мещан, занимавшихся торговлей, без малого две сотни.
Упомянем и уездных помещиков, устроивших в своих имениях фабрики. В селе Петровском, которым после фаворита Елизаветы Петровны графа Алексея Григорьевича Разумовского владел его брат генерал-фельдмаршал и гетман войска Запорожского Кирилл Григорьевич, а затем сын брата просто сенатор и просто действительный тайный советник Петр Кириллович, была построена ковровая фабрика. На ней для нужд двора ткали ковры и гобелены. В Тригорском помещик Александр Вындомский завел льняную мануфактуру для производства парусины, а граф Сергей Ягужинский открыл в селе Велье в 1764 году льняную фабрику, на которой планировалось производить высокосортное полотно. Управителем на этой фабрике Ягужинский назначил француза Девальса. Леонтий Травин, сам родом вельянин, писал о Девальсе как о человеке жестоком и алчном, «сдиравшем кожу с крестьян, чтоб наполнить свою алчную утробу обогащением». Крестьяне, испугавшись сложных механизмов и побеседовав с нагнавшими на них страху приехавшими мастерами, пишет Травин, «пришли в отчаяние и оттого сильно возмутились… Иные ж азартные между теми ж кричали обволочь дом соломою и со всеми ими сожечь, но другие сему не соглашались; и так продолжалось до вечера». Кончилось все разгромом и фабрики, и ткацких станков двухтысячной крестьянской толпой. Девальс бежал ночью в Псков, а оттуда вскоре приехала в Велье воинская команда. Перепороли всех без исключения, а зачинщиков сослали на каторгу.
Раз уж зашла речь о помещиках Опочецкого уезда, скажем еще о двух, не построивших ни фабрик, ни заводов в своих имениях. В 1746 году владельцем так называемой Михайловской губы, состоявшей из имений Михайловское и Петровское, стал генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, прадед Нашего Всего, а в селе Матюшкино в 1730 году обосновались Ларион Захарович Бедренский и его жена Прасковья Моисеевна Бедренская – дед и бабка Михаила Илларионовича Кутузова. В восьмидесятых годах XVIII века село Матюшкино[21] с близлежащими деревнями переходит от Прасковьи Моисеевны к ее зятю – Иллариону Матвеевичу Голенищеву-Кутузову, генерал-поручику, сенатору и кавалеру. Правду говоря, сам Михаил Илларионович на малой родине бывал редко, чаще всего проездом. Надолго приезжал только в год смерти отца – делил с родственниками наследственные владения. Впрочем, к истории Опочки в XVIII веке это имеет очень отдаленное отношение.
«Лежит на берегу реки Великой в приятном местоположении»
Опочку начала XIX века довольно подробно описал минералог и химик академик Василий Севергин, проезжавший через город в 1803 году: «В сем изрядном, правильно выстроенном городе жителей дворян, купцов, мещан и пр. всего 828 человек. Церквей каменных 2; деревянных 5; домов казенных каменных 2; деревянных 4; питейных домов деревянных 9; домов дворянских деревянных 20; купеческих каменных 2; деревянных 216. Домов разных обывателей деревянных 58; кузниц деревянных 4; пивоварня 1. Итого всех строений 323. В малом здешнем народном училище нашел я 26 учеников. Монастырей, фабрик, заводов и мельниц в городе нет. Купечество и мещанство производят торг выработанным в сем уезде льном и пенькою, кои отправляют в Ригу, Нарву и С. Петербург. Говядина, свинина, баранина, а на случай куры, индейки, гуси, дикие тетеревы, ряпчики и зайцы в городе продаются; прочие же товары, как то чай, кофе, мука крупичатая, шелковые и бумажные материи, полотны, медныя, железныя, стальныя и другие вещи покупаются из Москвы, Петербурга, Риги, Нарвы и из Белорусских городов. Хлеб разного рода покупают от уездных обывателей. А прочие овощи, как то капуста, огурцы, картофель, редька, свекла, морковь, получаются из собственных огородов. В Великой реке, протекающей через Опочку, ловится щука, лещи, налимы, окуни, лини и плотва».
Девять питейных домов, пусть и деревянных, на восемьсот с лишним человек… Но в остальном все то же, что и в конце XVIII века, – торговля льном и пенькой, капуста, огурцы, редька в огородах, но уже и картофель, уже и двадцать шесть учеников в малом народном училище и вместо кривых улиц и переулков, о которых писал Леонтий Травин, «изрядный, правильно выстроенный город».
Кстати, скажем и о малом народном училище. Оно было открыто еще в XVIII веке – 1 апреля 1787 года и было действительно малым. Открывали его по специальному обряду, утвержденному губернскими властями[22]. Как только обряд заканчивался, начиналась обычная жизнь. По уставу в двухклассном училище должно было быть два учителя, но в целях экономии преподавал один, и получал он как за работу в одном классе. Зарплату ему обещалось платить опочецкое купечество (не зря же его приглашали на открытие). При открытии училища присутствовавшие собрали 121 рубль, а вообще на содержание училища городское общество отпускало 140 рублей в год. О том, как жили учителя в Псковской губернии, в частности и в Опочке, писал уже известный нам академик Севергин, который по поручению попечителя Санкт-Петербургского учебного округа обследовал уездные города Псковской губернии. В своем отчете Василий Михайлович писал: «Учителя живут в совершенной нищете, звание учительское не пользуется никаким уважением, судьба стариков и их семейств не обеспечена; все эти условия охлаждают педагогическую деятельность учителей». Один из первых учителей Опочецкого народного училища Троицкий в 1804 году жаловался губернскому директору училищ на то, что ему не дают ни квартиры, ни дров, ни свечей. Он даже вступил в конфликт с городской думой из-за плохого помещения училища и плохой квартиры[23]. Правду говоря, и сам Троицкий не был образцовым учителем. По воспоминаниям опочецкого купца Петра Ивановича Кудрявцева, выпускника училища, занимался Троицкий с учениками мало, а больше заставлял способных старшеклассников заниматься с младшими. Тех, кто плохо успевал, понятное дело, секли, но и тут он поручал это малоприятное занятие старшеклассникам. Секли как мальчиков, так и девочек. Когда Кудрявцеву поручили высечь девочку, тот испугался и смутился, но учитель ободрил его словами «Ничего, ничего не бойся, это так следует». Когда ученик научался чтению, письму и четырем арифметическим действиям, учитель советовал ему оставить школу и возвращаться домой, чтобы помогать родителям. Для девочек он и грамотность считал необязательной.
Хватит об училище, тем более что в 1815 году оно было переименовано в приходское, а в городе появилось двухклассное уездное училище, при открытии которого его попечители пожертвовали единовременно на учебные пособия уже 400 с лишним рублей, и девять лучших выпускников малого народного училища были приняты в первый класс уездного, но прежде, чем все это произошло, была Отечественная война, и к ней мы перейдем буквально через два предложения, только упомянем об одном событии, произошедшем в Опочецком уезде. В 1806 году имение Михайловское, по смерти его владельца, Осипа Абрамовича Ганнибала, перешло к его жене Марии Алексеевне Пушкиной и дочери Надежде Осиповне. Не бог весть какое имение – небольшой дом и несколько надворных построек. Через одиннадцать лет в него в первый раз приедет старший сын Надежды Осиповны после окончания Лицея.
Опочка в Отечественную войну 1812 года находилась в районе действий Первого пехотного корпуса под командованием генерал-фельдмаршала Витгенштейна, прикрывавшего направление на Петербург. В городе был расквартирован резервный полк тяжелой кавалерии 2-й кавалерийской дивизии, открыт госпиталь, созданы караулы из вооруженных крестьян для борьбы с французскими фуражирами, время от времени появлявшимися на территории уезда. Горожане делали денежные пожертвования, а в уезде собрали для нужд армии хлеба почти на 42 000 рублей, 1600 с лишним тулупов, несколько сот голов крупного рогатого скота и представили почти семь тысяч подвод для перевозки раненых, пороха, сухарей и вывоза хлеба.
Когда стало известно, что Наполеон на Петербург не пойдет, то жители Опочки вместе с прихожанами нескольких церквей в уезде пошли крестным ходом на белорусскую границу. Опочецкий купец Петр Степанович Лобков писал по этому поводу в дневнике: «Сего же года, сентября 9 дня, в бытность французов в Москве и Полоцке, из Опочки ходили с крестным ходом на границу Белорусскую со всех церквей, и Святогорския Божия Матери, и с Афанасьевской слободы иконы, тоже и с Прихаб. Было молебствие с коленопреклонением о побеждении врага. Жители города оставляли в домах старых да малых; и за здравие воинов всероссийских пето и пито».
Все же, поскольку французы находились в соседней с Псковской Витебской губернии, кое-кто из опочан запаниковал и бежал в Псков. Л. И. Софийский в своей книге об Опочке цитирует рукопись опочанина и тоже купца Андрея Лапина, в которой написано, что в июле 1812 года «французские войска были в шестидесяти верстах от нас, от чего у нас было немалое смятение, некоторые выезжали вон из города и закапывали свое имение в земле, отчего впоследствии находили клады».
Наполеоновские отряды, которые могли бы через Псковскую губернию пойти к Северной столице, были в октябре разбиты корпусом Витгенштейна под Полоцком, после чего в городе и уезде все окончательно успокоилось.
Отдельно скажем и об участии опочецких помещиков в войне. Среди них и участник сражения под Полоцком генерал Иван Петрович Кульнев, командовавший правым флангом русских войск, и генерал от кавалерии Николай Михайлович Бороздин, и генерал-майор Федор Пантелеймонович Алексополь, руководивший в Бородинском сражении четырьмя егерскими полками. Уволенный в 1816 году от службы «за ранами» с мундиром и полным пенсионом, генерал жил в Опочке до самой смерти. Прибавим к этим генералам и двух потомков опочецких служилых казаков – Александра Ивановича и Степана Венедиктовича Костровых. Первый, раненный при Бородине, поля боя не покинул. Дошел до Парижа. Степан Венедиктович в сражении под Полоцком «подавал собою пример мужества нижним чинам». Наконец вспомним и опочецкого помещика, под командой которого храбро воевали все вышеперечисленные офицеры, и не только они, – о генерал-фельдмаршале князе Михаиле Илларионовиче Голенищеве-Кутузове-Смоленском.
Проживал в Опочецком уезде и еще один участник Отечественной войны и Заграничного похода русской армии – Александр Адамович Глаубич. В 1826 году он был уволен от службы в чине полковника за болезнью. Жил он в селе Елизаветино и часто ездил в гости к соседям Пушкиным в село Михайловское, а они приезжали в гости к Глаубичу. В феврале 1837 года Александр Адамович был среди тех немногих, кто хоронил Пушкина.
Раз уж зашла речь о военных, то нельзя обойти и подполковника Александра Ивановича Обернибесова, принимавшего участие в боях против французов еще до начала Отечественной войны. В 1806 году был он тяжело ранен и попал в плен, из которого вернулся в полк только через год. По возвращении из плена попал в лагеря был пожалован орденом Святого Владимира IV степени. Потом снова воевал в Финляндии против шведов, снова был ранен, захвачен в плен и вернулся домой только через год, в ноябре 1809-го. За отличие в службе был награжден золотой шпагой «За храбрость» и отставлен за полученными ранами подполковником с мундиром и пансионом полного жалованья. Мы о нем рассказываем не потому, что он был опочецким помещиком, совсем нет. Он им не был. И не для того, чтобы вы удивились тому, что в те времена после возвращения из плена можно было получить орден, хотя и для этого тоже, но потому, что спустя семь лет после отставки, в мае 1815 года, подполковник Обернибесов был назначен в Опочку городничим и прослужил в этой должности ни много ни мало, а двадцать восемь лет – почти до середины XIX века.
В 1828 году чиновник по особым поручениям камергер барон Мантейфель по результатам ревизии Псковской губернии в рапорте генерал-губернатору Филиппу Осиповичу Паулуччи докладывал об Опочке и ее городничем: «Город Опочка, предназначенный, в Бозе почивающей Императрицею Екатериной II, для помещения наместнического правления, лежит на берегу реки Великой в приятном местоположении. По древности оного есть много ветхих строений и крестьянских изб, но есть даже каменные, в новом вкусе выстроенные здания. Торговля оного производится большей частью льном, и как река несудоходна, то обозы отправляются зимою. Городничий, отставной полковник Обернибесов, человек честный, занимается украшением города, но встречает препятствие в бедности жителей, между которыми есть предостаточные только два купеческих дома. Город имеет всего доход 5385 рублей 10 копеек в год. Улицы, кроме площади, не мощены, а за Великой строения разбросаны и есть ветхие… Тюремный острог совершенно ветх. Здание ежечасно угрожает падением. Больница доказывает, что к содержанию больных приложено должное попечение. Столы, кровати, посуда и белье в исправности. Бедные горожане в оную не принимаются. Богадельни нет. У прочих казенных зданий два корпуса, предназначенные для присутственных мест наместнического правления. Они выстроены из кирпича с чрезвычайной прочностью. Теперь они стоят без всякого употребления. Пожарные инструменты состоят в одной трубе с принадлежностями, впрочем, хорошо содержимыми. Лошадей при полиции нет».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
…с помощью подсечно-огневого земледелия. – Неподалеку от современной Опочки, возле деревни Кирово, есть место под названием Духова гора. В первом тысячелетии нашей эры на этом холме высотой около 15 метров было городище. Жили на нем сначала какие-то балтийские племена, потом пришли славяне-кривичи, потом они все перемешались, потом холм опустел, но на нем осталось каменное изваяние Перуна, потом из него сделали каменный крест, потом крест ушел в землю, а на холме поставили часовню Сошествия Святого Духа, и когда, по преданию, Иван Грозный перед смертью приказал составить реестр святых мест, то в него внесли Духову гору, поскольку уже тогда она была местом оживленного паломничества. Сама часовня новая – построена в десятых годах нашего века, а фундамент под ней старинный – чуть ли не времен Ивана Грозного. Приходят туда большей частью за исцелением от самых разных болезней и за исполнением желаний. Тоже самых разных. На полпути к вершине холма, где-то на высоте семи с половиной метров, лежит большой плоский камень. Нужно постоять на нем босыми ногами – и болезнь уйдет. Или начнет уходить. Камень, правда, помогает не от всех болезней, а только от болезней ног. Рядом с камнем все деревья и кусты обвязаны разноцветными лентами, символизирующими болезни, которые оставляют или хотят оставить паломники. Сначала эти ленты вешали на часовню, но потом местный священник запретил это делать, и тогда стали ими обвязывать деревья.
Когда вы заберетесь на вершину холма и войдете в часовню, не забудьте, стоя перед иконами, развернуть руки ладонями вверх. Почувствуете легкое покалывание в ладонях или даже заломит руки – значит, через вас пошел поток энергии. Если не почувствуете – значит, не пошел или пошел, но не через вас. Между прочим, приезжали на Духову гору из Пскова специалисты по паранормальным явлениям и подтвердили, что на вершине горы существуют два энергетических потока – один восходит, а другой совсем наоборот. Потоки очень сильные. Некоторые экстрасенсы из паранормальных буквально падали в обморок. Сам-то я не видел, но мне рассказывал человек, которому тоже рассказывали. Из нормальных приезжали еще и физики с приборами. Сказали, что прямо под горой проходит разлом земной коры. Короче говоря, при желании можно зарядиться положительной энергией, не выходя из часовни, а можно и наоборот – все зависит от того, в какой энергетический поток попадешь. При выходе из часовни знающие люди рекомендуют заметать следы. Это, как утверждают местные жители, способствует миру в семье. Для этого возле входа в часовню поставлен веник. Можно даже за собой и полы помыть. Рядом с веником стоят швабра и ведро с тряпкой. Тогда мир будет еще прочнее и здоровье укрепится. После того как выйдете из часовни, необходимо ее три раза обойти против часовой стрелки. Можно, конечно, и не обходить, если вас не интересует результат. Как будете обходить – приглядитесь к стенам часовни и увидите, что в каждую щель или трещину в бревнах вставлены бумажные записочки со списками пожеланий и монеты. Кстати, исцеляющий камень, на котором нужно постоять босыми ногами, тоже усыпан мелочью.
Рассказывают про одну бабушку, которая в детстве не могла ходить. Ее родители привезли к часовне и оставили на ночь. Бабушка в детстве пролежала в часовне всю ночь и видела свечение. Утром ее родители забрали домой, и она стала ходить. Не сразу, конечно, а недели через три или даже четыре. Еще был случай, когда один мужчина срубил себе на Новый год елку на вершине горы. Так он потом лишился ноги. То ли ему отрубили ее, то ли он ее потерял – неизвестно. Правда, не сразу это произошло, а месяца через три.
И еще. На вершине горы есть маленькое кладбище из нескольких десятков могил жителей деревни Кирово, на котором, случается, и сейчас хоронят, а под горой – большое, но там уже не хоронят. На большом стоит восемь стел черного гранита, сверху донизу исписанных названиями деревень и фамилиями жителей окрестных деревень, погибших или пропавших без вести во время последней войны.
2
…и назвали его Опочкой. – Один из первых опочецких историков Иван Петрович Бутырский в книге «Опыт древней истории города Опочки» утверждал, ссылаясь на летописные источники, что Опочка гораздо старше и была построена на месте села Опочня или близко от этого места, а село это упоминалось в летописях еще в 1341 году, поскольку в нем немцы убили пять псковских послов, и даже приводит имена этих послов – Михайла Любиновича, Евана Михайловича, Семена Леонтьевича, Власия Колотиловича и Анфима Полуторановича. Другой опочецкий историк Леонид Иванович Софийский в книге «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем», нисколько не сомневаясь в том, что послов именно так и звали, ссылаясь на практически те же самые летописные источники, утверждал, что город Опочка не имеет никакого отношения к селу Опочня и что село это находилось гораздо севернее, ближе к границе с Лифляндией и Витебской губернии, где протекают реки Опочна и Опоченка, и потому… Не будем мешаться в спор двух краеведов. Тем более что оба они давно умерли, оставшись каждый при своем мнении. (Тем более что Софийский, как выяснилось впоследствии, оказался прав.) О псковских послах и говорить нечего. Городу Опочке, слава богу, уже шестьсот с лишним лет. Что ему какие-то лишние семьдесят лет…
3
…где стояла церковь Спаса. – Современный человек думает, что начинали строительство средневековых русских крепостей со стен и других оборонительных сооружений, а уж потом строили церковь, но на самом деле все было ровно наоборот – сначала закладывали храм, а уж потом начинали строить все остальное, достраивая в то же самое время и церковь.
4
…в ослеплении даже рубили друг друга. – Почти такой же случай произошел в 1532 году при осаде татарами Солигалича. Правда, осажденные крестным ходом не ходили, но преподобный Макарий Желтоводский и Унженский и сам, видя, в каком тяжелом положении находится город, небесным покровителем которого он был, появился конным на валу и прикрыл своим багряным плащом город. Так рассказывали очевидцы, и так с их слов записано в «Житии преподобного Макария Желтоводского и Унженского». Там же сказано, что «погани ослепли и сами себя изрубили», а те, кто не были изрублены, сняли осаду и ушли. Удивительно и то, что осада Солигалича татарами длилась почти столько же, сколько осада Опочки, – две ночи и три дня.
5
…от иконы вряд ли осталась хотя бы щепка. – Через два года после осады Опочки Витовтом, в 1428 году, по просьбе опочан с простреленной иконы был сделан список. Это не была точная копия – к образу Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца были прибавлены изображения преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, память которых отмечается 3 августа – в тот самый день, когда Витовт ушел от стен Опочки. В 1554 году к иконе по случаю создания для нее оклада была прикреплена серебряная пластинка, на которой, среди прочего, гравировано «…лета 6936 написана бысть икона сия повелением рабов Божиих старост Опочке града Семеном Колосовым и Федором Глиною и всеми Опочаны при посадникех опочцких Прокофии Макове да Тимофеи Поткине и при Зеновье и приде князь Тото (Витовт. – М. Б.) с тотары и с ляхи и в силе велице в день субботный и град Опочку хотя взя и лезли ко граду от утра до нощи и отодеть посрамлену и много своих голов положив князей тотар а град Опочку соблюде и люди здравы молитв святая Богородица и святого Николы и святых отец Долмата и Фауста Исака а писал Иев дияк».