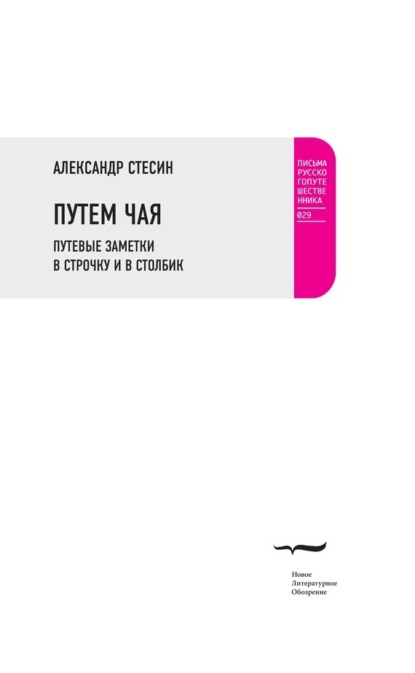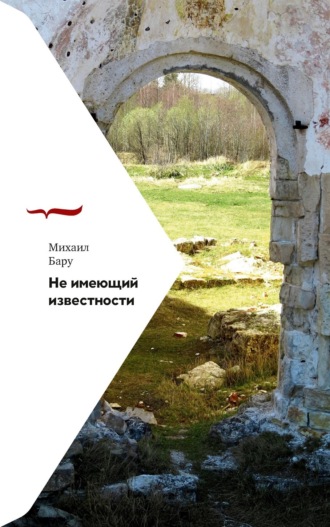
Полная версия
Не имеющий известности
Читая отписки опочецких воевод московскому начальству в XVII веке, удивляешься постоянным жалобам на нехватку денег, стройматериалов, припасов, на плохое состояние крепостных стен, башен, рва… К примеру, воевода Григорий Чириков в 1636 году пишет царю, что выкопанный ров оплыл, что установленные под стеной еловые колья пообломались и повалились, что «твоих государевых житниц на Опочке с твоим государевым дворцовым хлебом трицать четыре, и те стоят врозне, потому что Казенного двора нет. И многие, государь, житницы стоят без кровли, а иные многие пообсели в землю с хлебом, а иные стоят в воды, подплыли водою…». И это не все – еще пороховой погреб сверху землей не обсыпан и дерном не обложен, еще и вал осыпается потому, что лес, которым он был укреплен, сгнил. «А делать… ныне тое стены, и башен, и ворот мне, холопу твоему, нечим; в твоей государеве казне у меня… денег и никаких денежных доходов нет. А городовая… стена обвалилась, а неделаной… стены, и башням, и городовым воротам, и валу, тому месту без новые обрупки быть не уметь».
В 1656 году воевода Ипат Вараксин, принимая у прежнего воеводы Никиты Княжнина Опочку, пишет царю про сгнившие и обвалившиеся прясла крепостных башен, про то, что водяной тайник осыпался и против тайника осыпается вал, а по сметной росписи этот тайник должны были отремонтировать еще восемь лет назад и вообще вал «поотсел в Великую реку, потому что около валу старинную подшву вымыло водою. И тое… городовые стены, и водяному тайнику, и городового валу отселым местом впредь бес поделки быть нелзе». В довершение ко всем бедам восемь лет назад, как раз тогда, когда по документам должны были привести в порядок водяной тайник, но не привели, выгорел «Божиим попущением» опочецкий острог, и от этого пожара обгорели колеса у станин, на которые были установлены большие пищали. Понятное дело, что все это нужно приводить в порядок – и ров чистить, и новые рогатки около рва устанавливать, и водяной тайник ремонтировать, да только… «посацкие люди и твои государевы дворцовые, архиепископли, и монастырские, и церковные, и помещицкие крестьяне, которые делали на Опочке твое государево острожное дело, того твоего государева дела и острожные доделки делать не хотят и на Опочку по высылкам нейдут, чинятца ослушны». Никогда не было – и вот опять. Когда они, спрашивается, были послушны-то?!
Через шесть лет воевода Семен Бешенцев, принимавший дела у прежнего воеводы Дружины Креницына, пишет царю, что «соли нискольке нет, и в нынешнее… воинское время без соли в Опочке быть нелзе». Еще и кровля на Себежской башне сгнила и обвалилась. Еще и городовой вал «во многих местех подмыло Великою рекою, и тот вал поотсел в Великую реку, потому что около валу стариную подошву вымыло водою. И тое… Себежские башни бес кровли, и городовой стены и отселому валу бес поделки ныне в воийское время и впредь быть нелзе, потому что стена огнила и вал осыпался». Кажется, Семен Бешенцев читал отписку воеводы Игната Вараксина и то место, где говорится о том, что старинную подошву вала смыло водою, не мудрствуя лукаво, списал практически дословно.
До сих пор все было про стены, башни, вал и пушки, а теперь про сам опочецкий острог. «А где, я… в посылках и в походех на твоих… службах ни бывал в городех, и такова теснова города, я, холоп твой, не видал. А мерою тово города острогу 500 сажен. А в остроге… всех 340 дворов, изба с-ызбою, кровля с кровлею стеншись стоит». Это пишет царю князь Никита Гагарин – полковой воевода, посланный со своим полком под Опочку в 1664 году для участия в военных действиях против поляков.
Если кто-то, читая отписки опочецких воевод, подумает, что Опочка в XVII веке только и делала, что гнила, разваливалась и оплывала в реку Великую, то ошибется, и очень. Опочка превратилась в важную приграничную крепость – в нее приходили на постой русские полки после военных походов на территорию Литвы и Польши. Опочка сделалась главным укрепленным городом во всей округе, и близлежащие крепости Велье, Красный и Воронич стали к ней в подчиненное положение. Это видно хотя бы потому, что их жители держали в опочецком остроге свои «осадные дворы», а проще говоря – кладовки, на случай военных действий и принимали участие в строительстве и ремонтных работах на территории крепости. Пусть и неволею, но принимали. В ремонтных работах были заняты и крестьяне окрестных дворцовых, монастырских и помещичьих сел. В Опочку свозили воинские и иные припасы из других псковских пригородов и все то, что можно было вывезти из завоеванных польских городов. В Опочке даже хранился походный государев шатер: «суконной муран, зеленой с полами, подбит выбойкою, в кожаном чемодане». Правда, у него «во многих местех верх и полы мыши изъели», о чем есть запись в Годовой смете, составленной в Разрядном приказе в 1668 году.
Что же до воеводских жалоб… Не писать же им, в самом деле, что все хорошо, что лес на строительство есть, что денег хватает и жители округи рвутся ремонтировать крепостные стены и башни. Этак урежут финансирование и не дадут денег ни на лес, ни на починку походного шатра государя… Еще и с ревизией приедут и накажут всех, включая мышей, которые погрызли шатер. Ну, насчет мышей я, конечно, призагнул. Мышей не тронули бы. Потопали бы на них ногами, и все, а вот воеводе, подьячим, стрелецкому голове, стрельцам, пушкарям и всем остальным мало не показалось бы.
Шутки шутками, а с ревизиями под стены Опочки приезжали Польша и Литва. Они и проверяли на прочность стены, башни, мерили глубину рва и остроту забитых в его дно кольев. Пушечными ядрами, конницей, пехотой и проверяли. Время было воинское, как писал воевода Бешенцев. Тут и не захочешь, а напишешь в отчете царю все как есть, без утайки.
По годовой смете Разрядного приказа гарнизон Опочки к весне 1668 года вырос до полутысячи человек. «Людей: голова стрелецкий… дворцовых сел прикащик… подъячей… казаков конных в рейтарском строе 101 человек, стрелцов 300 человек, пушкарей 12… воротников… 4, посацких людей 86 человек, и в том числе з боем с пищалми 25 человек, с топоры и з бердыши 52 человека, без бою 9 человек. Всего всяких чинов людей 506 человек…»
Все же, после заключения Андрусовского перемирия, когда граница отодвинулась, хотя и ненамного, от Опочки и боевые действия в этих местах поутихли, оборонительные сооружения стали приходить в упадок, и к восьмидесятым годам XVII века крепости потребовался капитальный ремонт. Подгнили башни, у которых от бурь и сильного ветра разломало кровлю, между некоторыми башнями обвалилась городская стена, вал у городских ворот обрушился, а сами ворота подгнили, осели и вовсе не закрывались. У городских ворот обвалился подгнивший мост, и в Верхний город стало невозможно ни пройти, ни проехать. С пороховым погребом, в котором хранились и пушечные ядра, дело обстояло еще хуже – он просто развалился. Как и казенные амбары, в которых хранились хлебные и соляные припасы. Бывший в то время опочецким воеводой стольник Дмитрий Иванович Унковский доложил о состоянии крепости псковскому воеводе боярину Борису Петровичу Шереметеву, и тот распорядился Опочку немедленно привести в порядок. Унковский приказал опочецким плотникам, из стрельцов и городовых казаков, все необходимое для ремонта осметить – и лес, и тес, и гвозди, и дрань, и камень, и сколько на работы необходимо отрядить плотников, каменщиков, землекопов и всех, кто в таких случаях требуется, и сколько денег им придется заплатить за работу. Платили, кстати, не всем. Починка и постройка моста заново, если будет в том нужда, была натуральной повинностью черносошных крестьян, и им за эту работу не полагалось ни копейки. В работах по «городовому строению» должны были принимать участие все черносошные крестьяне трех уездов – Опочецкого, Велейского и Воронецкого. Должны, но… началась обычная история – никто не хотел отвлекаться на строительные работы, поскольку и без того у крестьян сельскохозяйственных забот всегда полон рот. Им нужно было пахать, а не строить. Дворцовые крестьяне Велейского и Воронецкого уездов немедленно отправили вышестоящему начальству челобитную, в которой писали, что «они де люди бедные и платят всякие градцкие платежи и поделки, строят во Пскове со Псковскими посадскими крестьяны, и то де их Опочецкое городовое строенье будет вдвое». Самое удивительное, что вышестоящее начальство вошло в их положение. Правда, не до конца и от участия в стройке их не освободило, но разрешило сначала все вспахать и посеять, а уж потом…
Каким-то образом уклонились от работ и часть монастырских и помещичьих крестьян. Видимо, тем общеизвестным способом, которым у нас уклоняются от разного рода работ, когда не хотят принимать в них участия. Те же, кто никак не смог уклониться, подали челобитную царю и в ней писали, что уже в прошлом году принимали долевое участие в постройке каменного погреба для хранения боеприпасов, что каменщиков и других работников за свои кровные нанимали и за обжиг извести платили, а уклонисты этого не делали, и подвод для привоза камня не давали, и за обжиг извести не платили, и потому справедливо будет за счет тех отказников все и сделать, тем более что у многих из них в Верхнем городе имеются амбары и клети. К челобитной был приложен список всех монастырских, казенных и помещичьих крестьян, которые в вышеуказанных работах не участвовали. Как говорится, и челобитная, и донос в одном флаконе.
За крестьянами помещика Поганкина опочецкие начальники даже посылали стрельцов и приставов, чтобы силой отвести их на работы, но… оказалось, что крестьяне все необходимые повинности платят по Пскову и трогать их нельзя. Так или иначе, а каменный погреб для хранения боеприпасов был псковскими каменщиками с помощью опочан построен и стал первым каменным зданием в Опочке[14].
За всеми этими военными действиями, за бесконечной починкой крепости, за постройкой стен Нижнего города[15] совсем не видно простой обывательской жизни ни самой Опочки, ни Опочецкого уезда, а она была, хотя и сведений о ней дошло до нас немного. В 1628 году, как сообщает опочецкий историк Иван Петрович Бутырский, разбойничал в уезде некто Тимофей Муха. Грабил он по дорогам купцов и скрывался с награбленным то ли в Себеж, то ли в Себежский уезд. Поймали Муху и выслали в Опочку для наказания.
В 1631 году воеводу Карпа Ушакова уволили до срока за беспробудное пьянство, за халатность, за отсутствие караульных у городских ворот и за систематическое оставление их (ворот) открытыми и днем и ночью. В следующем году казна взыскала с опочецких пьяниц 33 рубля. По тем временам большая сумма. Что они там натворили – поломали ли лавки в кабаке, или сам кабак разнесли по бревну, или избили кабатчика, или пропили казенное имущество – теперь уж не установить, но запись о взыскании осталась в документах, относящихся ко времени царствования Михаила Федоровича.
В октябре 1645 года Нижняя Опочка выгорела дотла. Опочецкий воевода доложил псковскому, а псковский по команде в Москву. Псковский воевода к своей объяснительной приложил записку, или, как тогда говорили, «сказку», опочецкого квартирмейстера Якова Спякина, в которой было написано, что «загорелася от пьяницы, от стрельца Коземки Чижика, пришед де пьяной домой к себе, учал за женою своей гонятися, веник зажокши, хотел мучить, а прошал гривну денег на пропой, и от того веника солома загореласе, и двор его и город весь выгорел». Коземке Чижику за все те безобразия, которые он учинял в пьяном виде, отрубили кисть левой руки. Чижик, скорее всего, требовал пенсии по инвалидности, и наверняка жаловался в Псков и даже думал понести челобитную в Москву, в Стрелецкий приказ, в котором у него был то ли знакомый подьячий, то ли писец, но ему в канцелярии опочецкого воеводы отсоветовали. Не то чтобы тонко намекнули, а так прямо и сказали, что можно лишиться языка, а он, в отличие от рук, у Коземки всего один, хотя и длинный.
В 1648 году построена в Опочке на Завеличье, то есть за рекой Великой, деревянная церковь во имя апостола Фомы. В 1651 году дворцовый крестьянин Егор Гадуков хвалился, что побьет опочецких дворян. Каких конкретно дворян и в каком количестве – неизвестно. Сохранился только указ псковскому воеводе князю Львову об «учинении допроса, по объявлению Псковского помещика Бедринского Дворцовому крестьянину Георгию Гадукову в том, что он похвалялся побить Опочецких дворян». Что с ним после допроса сделали, тоже неизвестно. Скорее всего, высекли и отпустили домой. Шел, поди, домой и думал, что еще дешево отделался.
В 1672 году в июне и июле трижды мироточила икона Святой Чудотворной Опочецкой Божией Матери. Видимо, повод для мироточения был, но мы его уже вряд ли узнаем. В 1675 году, в январе, сразу после кончины Алексея Михайловича, в доме воротника Харитона Трошкова мироточила икона Казанской Божией Матери, а в доме Лаврентия Чернавина мироточила икона Благовещения Пресвятой Богородицы. В марте 1681 года снова замироточила икона Святой Чудотворной Опочецкой Божией Матери. Снова неизвестно, по какому поводу. В 1684 году на дороге в Опочку был убит опочецкий казачий голова Сергей Шелгунов. В 1686 году стрельцы написали челобитную начальству с просьбой построить новую караульню взамен старой – сгнившей и обвалившейся, «чтоб нам холопем Вашим, будучи на Вашей, Великих Государей, службе, на караулех в той караульне холодною смертью не помереть». Начальство согласилось и построило. В 1688 году опочане решили пойти крестным ходом в Святогорский монастырь Успенской Пресвятой Богородицы и просили у великих государей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича и у великой княжны Софьи дать им опочецких стрельцов для охраны икон и церковной утвари «сколько человек пригоже». Власти распорядились прислать для охраны сто стрельцов.
«Сей город наименовать губернским»
Вот, собственно, и все о XVII веке в Опочке. Рассказ об Опочке XVIII века лучше всего предварить цитатой из книги опочецкого краеведа Леонида Ивановича Софийского «Город Опочка и его уезд». «В царствование Петра Великаго войны со шведами уже ея не коснулись, и она мало по малу, с течением времени, снизошла на степень обыкновеннаго города». После войны со шведами граница отодвинулась от Опочки к Балтийскому морю. Волей-неволей, а пришлось «снисходить на степень обыкновенного», или, проще говоря, превращаться в захолустный провинциальный город. Крепость, конечно, в Опочке была, и в ней даже стоял военный гарнизон, но валы оплывали, и никто их уже не восстанавливал, стены гнили и обваливались, кровля на башнях проваливалась, а водяной осадный колодец землей заплывал, заплывал да и заплыл совсем. Чтобы уж закончить повествование о крепостных сооружениях, скажем, что в сентябре 1774 года в городе случился пожар и все, что еще оставалось от стен, башен и ворот, сгорело. Сгорело еще пять деревянных церквей, почти сто обывательских домов и один дом питейный. Хуже всего то, что сгорела еще и часть опочецкого архива, сложенная в подвале соборной церкви. После этого пожара уже ничего из крепостных сооружений не восстанавливалось, и церкви построили в другом месте. Остров, на котором стояла более трех с половиной веков Опочецкая крепость, уже не застраивали.
Ну, до тех времен мы еще доберемся, а пока, в самом начале XVIII века, в 1708 году, при разделении Петром Первым России на восемь губерний, Опочка была приписана к Ингерманландской губернии. Через одиннадцать лет Опочка, не сходя с места, оказывается в Псковской провинции Санкт-Петербургской губернии, а еще через восемь лет – уже в Новгородской. Еще через сорок три года, в 1772 году, в царствование Екатерины Второй, Опочка нежданно-негаданно становится губернским городом во вновь образованной Псковской губернии. Почему вдруг Опочка, когда есть Псков… Видимо, так легли карты Российской империи. В наказе, данном императрицей в мае 1772 года губернаторам Псковской и Могилевской губерний, так прямо и было сказано: «Назначивается Опочка, который для того и устроить нужно».
Начальником над псковским губернатором был генерал-губернатор Белоруссии граф Захар Григорьевич Чернышев. Он, исполняя наказ, представил на утверждение императрице доклад, в котором писал: «…При заведении Белорусских губерний Вашему Императорскому Величеству Всемилостивейше угодно было повелеть одну из оных, а именно Псковскую губернию, устроить въ городе Опочке, и сей город наименовать губернским; а на построение тамо губернской (канцелярии), також губернаторскаго и служащим при той чинам домов и разных казенных строений, по всенижайшему моему представлению, между прочими, и на сей город сумма отделена, из коей уже заготовляются разные материалы, потребные к произведению в оном каменных строений. Но как сей город нынешняго года в сентябре месяце от пожарнаго случая столь претерпел, что с соборною церковью других еще 4 и при том не малая часть прежних деревянных строений огнем истребилась, о чем от меня и Правительствующему Сенату в свое время донесено; a тем теперь очистились особливо те места, где нужно было застроить губернскую канцелярию и домы губернаторской и прочих при губернии служащих, такоже и другия строения, то сделанный план проэктируемых в том городе Опочке строениям, к Высочайшему Вашего Императорскаго Величества усмотрению, всеподданнейше поднося, прошу Всемилостивейшаго утверждения; и осмеливаюсь доложить, не угодно ли будет Вашему Величеству, чтоб на построение каменной соборной церкви употребить до 10 000 рублей из той суммы, которая по Псковской губернии за учреждением почт и от содержания оных в прошлом 1773 году осталась и в наличности тамо хранится и никуда не назначена». На докладе генерал-губернатора Екатерина Великая начертала «Быть по сему». Утвердили план 12 декабря 1774 года.
И стало по сему[16]. В Опочке вместо должности коменданта учредили должность обер-коменданта и на эту должность назначили генерал-майора Гиршейда. При Чернышеве начали готовить Опочку к роли губернской столицы. Стали строить Спасо-Преображенский собор, а на площади, которая теперь называется Советской, выстроили два огромных, в масштабе Опочки, конечно, каменных двухэтажных корпуса. Один из них предназначался для казармы, а другой для присутственных мест, там размещались казначейство и тюрьма[17]. Эти здания и сейчас там стоят. В семидесятых годах XIX века на одном из корпусов надстроили еще два этажа и продали его из казенной собственности городу за 30 000 рублей. На другом надстроили всего один этаж. Теперь оба этих корпуса, сильно обветшавших, принадлежат городу. В меньшем, трехэтажном, находится ПТУ, а в большем, четырехэтажном, в надстроенных двух этажах до Первой мировой войны располагалось реальное училище, в советское время, в шестидесятых и семидесятых, был учебный корпус еще одного училища, но уже зенитно-ракетного. Теперь в нем на первом этаже аптека, магазины модной одежды, цветов, обуви и вин. Окна и стены всех остальных этажей заклеены объявлениями о том, что продаются производственные помещения, но, судя по всему, покупатели в очередь не выстраиваются. От собора, который находился между корпусами присутственных мест, и вовсе ничего не осталось – его, как мы уже знаем, разрушили в 1937 году и кирпичи пустили на надстройку третьего этажа на здании тюрьмы, казначейства и жандармерии (к тому времени там уже были почта и советские учреждения), но тогда, в XVIII веке, его в 1795 году достроили и освятили. На соборной колокольне висело девять колоколов, и самый большой был весом почти в 100 пудов. Отливали этот колокол в Москве[18] и употребили на отливку медь, оставшуюся от колокола сгоревшей во время большого пожара в 1774 году деревянной церкви. В соборе хранились самые почитаемые опочецкие иконы: простреленный литовцами в 1426 году образ Всемилостивого Спаса и икона Опочецкой Божией Матери «Умиление». Находилась в соборе икона, изображавшая во весь рост Екатерину Вторую, а под ее изображением была помещена надпись «Екатерине Великой и Премудрой слава Созидательнице сего святого храма»[19].
Стали Опочку отстраивать по генеральному плану, утвержденному Екатериной. Отдельно нужно сказать и о плане, разработанном выдающимся русским архитектором Иваном Егоровичем Старовым. По этому плану Опочка, расчищенная пожаром, должна была стать не просто губернским городом Российской империи, но европейским губернским городом. Планировалось устроить площади, на одной из которых должен был стоять православный собор, а на другой римско-католический костел. Предусмотрели въезды и выезды в город, торговые ряды, соляные магазины, воинский городок, батальонную школу, места для огородов, прописали подробно, какой должна быть регулярная застройка, вплоть до примерных размеров домов и их функционального назначения. На главном проспекте обозначили дома губернского начальства. Запланировали даже пригородный еврейский посад. Для военных решили построить гарнизонные и офицерские дома, а по двум сторонам моста через Великую поставить артиллерийские батареи с крытыми галереями при них, чтобы содержать технику и в зимнее время. Пушки этих артиллерийских батарей должны были смотреть на запад. С направлением стрельбы все оставалось по-прежнему. Уже и подрядчиком был выбран опочецкий купец Игнатий Порозов, поставлявший стройматериалы, уже и начали строительство в 1775 году, уже и построили корпуса, как вдруг карта империи легла по-другому в связи с присоединением Польши, и Опочка в 1777 году из губернского города одним росчерком царского пера превратилась в уездный. Деньги на постройку новых губернских зданий сразу перестали выделять.
Целых пять лет Опочка прожила столицей губернии. На память об этом времени остались у нее два больших каменных корпуса на Соборной площади, план Старова и дом генерал-губернатора, в котором он, скорее всего, не жил ни дня. Дом этот и теперь стоит на углу улиц Ленина и Коммунальной, которые раньше были Великолуцкой и Новоржевской. В нем на первом этаже квартируют кафетерий и магазин «Молоко», а на самом углу висит памятная табличка о том, что дом является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Правда, двери в кафетерий и магазин заперты и, кажется, давно не открывались, да и весь внешний вид дома с полуслепыми, мутными окнами говорит о том, что государство манкирует своими обязанностями. В нем, наверное, и привидений-то нет, если только на чердаке, за красивым полуциркульным окном, запыленным и закопченным до черноты. Правду говоря, дотошные краеведы выяснили, что дом этот был построен позже, в начале XIX века, а Чернышев и Кречетников когда приезжали, то останавливались в самых обычных деревянных домах, если, конечно, вообще приезжали, но мы в этом месте копать глубже не будем, а то получается совсем обидно – и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты.
В декабре 1778 года Екатерина Вторая утвердила новый план уже уездного города Опочки. Именным указом тверскому, новгородскому и псковскому наместнику генерал-поручику Якову Сиверсу (теперь Опочка находилась в его ведении) было предписано «употребить казенное каменное в городе Апочке на помещение уездных правлений разного звания, магазейнов и городской школы… чтоб нижнее жилья зданий оных обращено было на торговые лавки».
В мае 1781 года был утвержден герб уездного города Опочки, представлявший собой «пирамидой сложенную кучу из известного камня, называемого опока[20], означающий имя сего города, в голубом поле», но, прежде чем герб был утвержден, Екатерина Вторая годом раньше посетила Опочку проездом через Псковскую губернию в Могилев. Сказать, что к ее приезду готовились, – значит не сказать ничего. Архиепископ Псковский и Лифляндский предписал Островскому, Опочецкому и Новоржевскому духовным правлениям, «чтоб от них подтверждено было Благочинным в тех церквах, где будет Высочайшее шествие, была соблюдена во всем чистота, и ежели есть что неисправное, было б исправлено; всем священно и церковнослужителям, в тех местах находящимся, приказать наистрожайше подтвердить, чтоб в платье и в прочем соблюдена была благопристойная опрятность и чистота, а при том чтоб были всегда трезвы и в должностях своих исправны, и никто б из них никакими просьбами не дерзал утруждать Ея Императорское Величество». Ну и колокольный звон, конечно, на всем пути следования, в близлежащих церквях, а там, где императрица остановится, «выходить священникам к дороге, если то будет по близости к церкви, в лучших ризах и епитрахили и при себе иметь крест на блюде, кадило, свечу в подсвечнике, в каждении ладану полагать немного». Еще и просфоры было предписано печь из чистой муки. Опочецким священникам говорить приветствие государыне не доверили. Для этого случая из Псковской семинарии был приглашен учитель-священник о. Козьма Зряковский, которому на проезд из Пскова в Опочку было выдано без малого восемь рублей. Приветственная речь состояла из таких сладких слов и оборотов, что на бумаге их приходилось разделять двойными пробелами – иначе они слипались в один большой ком, который и прочесть было нельзя. Впрочем, о. Козьма ее читал по памяти: «…Всеавгустейшая Монархиня. Какое сладкое чувство ощущаем в душах наших, сподобившись сретать сладчайшее лице Всепресветлейшия Великия Государыни. Никакого подобия и примера в сравнении оной радости нашея не видно… Гряди, торжествующая Государыня. Гряди, Всемилостивейшая Матерь Отечества. Гряди, Самим Богом во всех наветах наблюдаемая. Гряди, всем нам чаянная и вожделенная. Ей же в провождении вси едиными усты и единым сердцем псалмографскую песнь воспеваем: Господь да сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века».