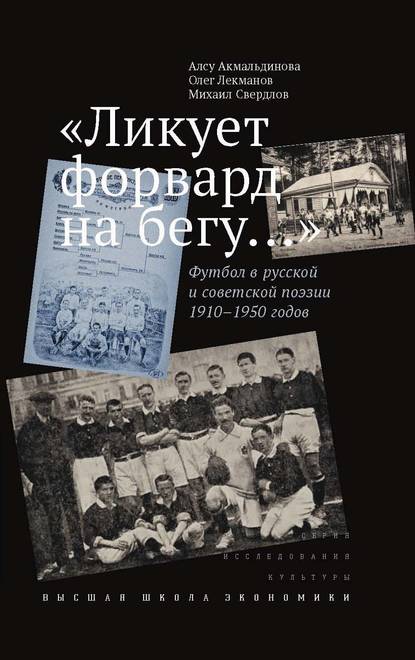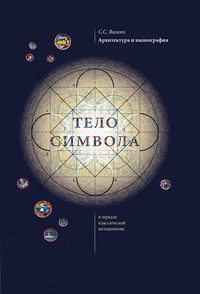Полная версия
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
Неподготовленность как непосредственность и неопосредованность никакими теориями и установками – ведущая проблема тогдашней, в известной мере гештальт-феноменологической теории искусства, когда у того же Зедльмайра в его Предисловии к «Архитектуре Борромини» (1933) ведутся рассуждения о «неэвклидовом архитектуроведении» в контексте непосредственного, не отягощенного никакими установками опыта любителя.
Нельзя забывать, что все это может быть и просто общим местом уже тогда стандартного экспрессионистического способа мышления с его акцентами на примитив и дикость, неиспорченность, непорочность и детскость, которые суть архаичность и а-историчность. Тот же Пикассо – модернистский вариант Джулио Романо: они оба знали и классическую традицию, и вызов-провокацию. Чередование, переход или совмещение того и другого – сама суть игры. Гомбрих прямо признается, что, когда он писал свою диссертацию, у Пикассо в самом разгаре был неоклассический период и этот дух витал в воздухе, которым они оба дышали, не подозревая об этом[103].
Та же мысль, но в другом месте, выглядит еще более определенной:
…дискуссия о маньеризме, из которой я вышел, была сильно окрашена в цвета экспрессионистического искусства. ‹…› Лишь гораздо позже я догадался, что Пикассо как раз тогда находился в своей классицистической фазе и несомненно повлиял на меня[104].
Кстати, не отрицает Гомбрих и влияния на него абстрактного искусства (переход от чистого формализма в искусствознании к проблемам изобразительности – не без воздействия абстракционизма).
Наконец, возвращаясь к Зедльмайру, стоит обратить внимание, как уже в поздние годы (1990) и именно в немецкоязычных своих воспоминаниях Гомбрих предельно дружественно отзывается об этом представителе когда-то «молодого венского искусствознания», который вместе со своими единомышленниками пытался выявить в истории искусства рациональное зерно:
…это было лозунгом молодых: как можно быть рациональным в истории искусства, как можно делать рациональные высказывания[105].
Признавая свое единство с Зедльмайром в понимании рациональности как определенности высказывания, Гомбрих довольно характерно добавляет, что «в Англии он научился несколько подбирать щупальца», имея в виду, вероятно, необходимость отчасти камуфлировать свою причастность к германской учености.
Практический выход из подобной теории был просто идеальным: издатель Вальтер Нойрат (в будущем – основатель Thames and Hudson) добился превращения писем Гомбриха девочке в книжку, посвященную «всеобщей истории для маленьких читателей»[106], тут же переведенную на польский, голландский и все скандинавские языки, что серьезно облегчило материальную сторону существования Гомбриха. (По окончании университета он быстро убедился, что его специальность, как и предрекал отец, не способна «питать существование»[107].) При этом немецкая версия очень скоро была запрещена нацистами, но не по антисемитским, а по пацифистским соображениям.
В немецком переиздании 2004 г. есть трогательное предисловие внучки Гомбриха Леони со всевозможными подробностями появления этой книжки. Там говорится, что юной корреспондентке Гомбриха, недоумевавшей, зачем ее милый знакомый занимается такими скучными вещами, предназначался просто рассказ о рыцарских нравах; Нойрат настоял на том, чтобы весь текст был написан за 6 месяцев; а готовая рукопись впервые была прочитана будущей супруге Гомбриха во время их прогулки по Винервальду.
Сам Гомбрих признается, что, вовсе не будучи историком, он черпал вполне достоверные сведения из энциклопедий, которые мог найти дома[108]. Внучка добавляет, что работа над книгой включала в себя три ежедневные стадии: утреннее чтение этих самых энциклопедий, дневное посещение библиотек (ради источников) и вечернее изложение текста в письменном виде[109].
…Тогда же Гомбрих женится на Ильзе («Лонни») Геллер – чешской пианистке, ученице Рудольфа Серкина (и его, Гомбриха, матери). Сама невеста настояла на том обстоятельстве, что «на медовый месяц у них нет времени». Молодые лишь навестили родственников в Праге[110]. И в 1937 г. уже в Англии у них рождается единственный сын Ричард, будущий специалист по буддизму и профессор в Оксфорде.
По поводу своей женитьбы Гомбрих делает два примечательных наблюдения: с одной стороны, музыка, благодаря жене, оставалась «в центре» его жизни, а с другой – как раз благодаря этому обстоятельству его реакция на классическую музыку всегда оставалась «более непосредственной», чем на визуальные искусства[111].
Различия чтения (read) текста и реакции (respond) на образ – основа основ всей методологической коллизии между формальным анализом и семантическим подходом в лице той же иконологии. Впрочем, мы должны иметь в виду, что парадигма художественной формы в контексте теории «чистого зрения» крайне далека от всякого рационализма и тем более позитивизма, когда непосредственная и витально насыщенная и обоснованная реакция может восприниматься как альтернатива рационализму, дискурсивности и логицизму как таковому (не без опасности, правда, психологизма и рудиментов органической теории). И это все – скрытая проблематика постклассического венского искусствознания, отраженная довольно тщательно, хотя и не без осуждения, в гомбриховской книге о Варбурге.
Аншлюс и Англия
В конце 1935 г., накануне Рождества, Гомбрих покидает Австрию. Его уговорил сделать это Крис, сам переживший полную изоляцию среди своих коллег-искусствоведов, но не гнушавшийся следить за развитием ситуации в соседней Германии по первоисточнику, регулярно читая «Völkischen Beobachter».
При этом как психоаналитик он был максимально востребован, принимая по три пациента в день: двоих – с утра, до музея, и одного – после, уже вечером[112]. И только после этого наступало время для статей и книг, а также для общения с единственным подлинным коллегой и другом – Гомбрихом, когда они вместе обсуждали и писали книгу о карикатуре[113]. А ведь еще были обязанности главного редактора фрейдовского «Imago»! Гомбрих не скрывает своего восторженного отношения к Крису с его «разносторонностью и концентрированностью»[114]. При этом Крис был уверен, что не нуждается «в слишком продолжительном сне»[115], что имело, однако, вкупе с болезненным пристрастием к табаку (три пачки сигарет в сутки!) катастрофические последствия для его здоровья: он скончался в неполные 57 лет от сердечного приступа.
Единственной, но безусловной формой релаксации для Криса были занятия в саду с цветами, которые, как предполагает Гомбрих, заменяли ему те изящные вещи, что ждали его когда-то в венском музее. (Хотя еще прежде, до музея, у Криса было схожее эстетическое переживание: когда он, будучи в Берлине, ухаживал за своей будущей супругой, его потряс один цветочник, который составлял ему букет, так что Крису по-настоящему захотелось заняться флористикой[116].) Тем не менее именно анализ был его жизнью и единственным прямым способом стимуляции интеллекта. Подобно заметкам о Курце, финальные формулировки Гомбриха о Крисе достойны буквального воспроизведения:
У него было мало времени для обычных общественных обязанностей, он редко виделся с людьми за пределами профессии, он лишен был отдыха за пределами своего сада. Так что не знавшие его близко легко могли находить его недоступным и напряженным. Лишь некоторые имели возможность знать, как много он заботился о благополучии других и как мало – о собственном[117].
…В один прекрасный день Крис сказал Гомбриху: «Это нельзя терпеть, уезжай отсюда». В ответ Гомбрих спросил его, почему он сам остается, на что Крис сказал просто: «Пока Фрейд здесь, я тоже остаюсь – при нем»[118]. Крис добился для своего друга двухлетнего гранта, предполагавшего исследования или стажировку в Библиотеке Варбурга (работа над библиографией по теме «Nachleben der Antike»). Гомбрих же в свою очередь еще прежде добился благосклонности Гертруды Бинг, заочно очарованной молодым ученым из Вены[119]. Есть история о том, как Гомбрих однажды написал полушутливое письмо Крису в Лондон, удачно воспроизведя его почерк (речь шла о книгах, которые будто бы задолжал Крису Гомбрих, и в письме от имени самого Криса говорилось, что книги возвращены; понятно, что Крис был крайне обескуражен тем обстоятельством, что он сам себе доказывает собственную забывчивость). Письмо было показано Бинг, и та попросила Гомбриха, чтобы он написал и ей – ее почерком. Это было исполнено лишь отчасти и с уверениями, что дружеская близость и симпатия по отношению к Крису позволила ему легко овладеть его причудливым почерком, тогда как «суровая архитектура ее письма нанесла ему сокрушительное поражение».
По дороге в Лондон Гомбрих заглядывает наконецто в Париж, гуляет по Лувру, сводит очное знакомство с известным историком искусства Шарлем Стерлингом. Попав в Лондон и в Библиотеку Варбурга уже в начале 1936 г., он
обнаружил себя среди очень ученых мужей и дам, знавших крайне много о Древней Греции и Риме и ничтожно мало – о современной Англии[120].
Гомбрих признается, что в то время немецкие и австрийские ученые-иммигранты существовали совершенно изолированно, образуя своего рода «анклав немецкой культуры в Англии», и о «реальной интеграции» речи быть не могло[121]. Следует также представлять себе «без всякой фальши», по словам Гомбриха, то «чудовищное время» и то положение дел: эмиграция в Англию была вовсе не автоматической, ведь «академики и интеллектуалы» из Германии и Австрии могли рассчитывать на приглашение в Англию лишь в случае, если они со своими специальностями не составляли конкуренции местным ученым[122].
В 1938 г., накануне аншлюса, Гомбриху удается вывезти из страны и родителей, благо что отец Гомбриха к тому времени почти совсем разорился и препятствий для отъезда никаких не было. (Надо сказать, что и прежде жизнь молодого ученого в тогдашней уже довольно антисемитской Австрии была малоприятной, в том числе и с точки зрения перспектив научной карьеры: после габилитации, напомним, он смог найти лишь место внештатного ассистента при Крисе, тогда – хранителе Музея истории искусств, преемнике, между прочим, Шлоссера[123].)
И, тем не менее, позиция Гомбриха по «еврейскому вопросу», если уместно здесь это выражение, отличалась крайней степенью неоднозначности. Существенен для него, например, тезис, что само
понятие еврейской культуры – это изобретение Гитлера, его предшественников и его последователей[124].
Поэтому если определять еврея как «члена определенного религиозного сообщества», как носителя языка, «понятного в синагоге» (это опять же гитлеровские, как говорит Гомбрих[125], дефиниции, но других нет), то в этом случае выяснение, кто, например, из венских художников начала века был евреем, – «задача для сотрудников гестапо»[126]. При том что все это однозначно относится лишь к «восточным евреям», а не к «ассимилированным»[127]. Культура не может и не должна иметь национальных аспектов, тем более что просвещенный (не местечковый!) еврей – всегда соль культуры как таковой, и особенно венской культуры начала ХХ в. Более того, этому уникальному – внеконфессиональному и вненациональному – положению потомков тех, кто за поколение до них выбрался из «невыносимо узколобой ортодоксии»[128], можно найти и социально-психологическое объяснение. Стоит только помнить, что расовая проблема возникает тогда, когда ослабевает или просто исчезает вера – как христианская, так и иудейская, так что и антисемитизм, и сионизм – одного поля ягоды[129]. Можно провести параллель с тенденцией «деевреизации» новозаветной экзегезы, характерной для либерального протестантского богословия начала ХХ столетия, воплощенного в фигуре А. фон Гарнака. Напомним, что Гомбрих принадлежал еврейству, вполне искренне и сознательно обратившемуся в протестантизм (в чем можно видеть способ в том числе и преодоления собственного прошлого)[130].
Австрийскому антисемитизму способствовало и крайне плачевное экономическое положение в Вене. Позднее Гомбрих вспоминал, что ему «бесконечно повезло» не видеть самого аншлюса[131]. Родители Гомбриха, как и многие другие в Германии, Австрии и всей Европе, поначалу даже не думали об эмиграции, особенно отец, привыкший к вполне респектабельной и безопасной жизни. Но когда мать Гомбриха была вызвана в гестапо (у нее выясняли сведения о некоторых ее учениках, что, впрочем, не имело никаких последствий), «им пришлось задуматься», по словам Гомбриха, и они согласились перебраться в Англию. Благо у матери Гомбриха там были друзья, которые обеспечили ее и ее супруга приглашениями[132]. Совсем иная – трагическая – судьба ожидала родителей Курца, отказавшихся эмигрировать (его мать должна была находиться при тяжело больной собственной матери). Во время войны следы их просто исчезают. Курц никогда и ни с кем даже не говорил на эту тему…
В Англии за безопасность пришлось платить бедственным материальным положением: мать Гомбриха вынуждена была зарабатывать уроками музыки, а отец – просто печатанием на машинке, что не могло не вызвать соответствующих чувств у их сына, признававшегося позднее, что у него «отчасти исчезли воспоминания о тех временах»[133].
Сотрудничество с Институтом Варбурга в Лондоне постепенно становится все более плотным и постоянным. Гомбриху в качестве помощника Бинг полагалось разбирать черновики Варбурга. Это была крайне тяжелая работа, ведь, по словам Гомбриха, он столкнулся с сильно фрагментированными, перенасыщенными примечаниями и примечаниями к примечаниям текстами самого настоящего невротика, не способного завершить начатое и постоянно уточнявшего мысль или начинавшего ее снова. Кроме того, Гомбрих пытался писать комментарии на английском (на подготовительный материал, посвященный атласу «Мнемозина»), но ему было велено делать это на родном языке[134]. В перспективе была задумана совместная с Бинг обширная книга об основателе библиотеки (в рамках запланированного его собрания сочинений), где Бинг отвечала за биографию, а Гомбрих – за идейную часть. Была составлена и библиография, после вой ны книга реально могла быть написана и напечатана, но Бинг скончалась (1964), и Гомбрих выпустил не труды Варбурга, даже не его «историю жизни», а «интеллектуальную биографию»[135].
О данном проекте Гомбриха можно сказать, что это в какой-то мере интеллектуальная автобиография его составителя. Всякий разговор о сознании другого человека – это отчет о собственном мышлении, способностях, границах и результатах собственного понимания и о содержании иного сознания – как о наполнении собственного Я. (Тем более что книга о Варбурге наполнена непубликовавшимися материалами его черновиков с комментариями Гомбриха, где уже сам отбор материала – аспект толкования.) Так что эта книга есть разновидность иконологии, но не столько визуальных, сколько ментальных, когнитивных и, главное, меморативных образов и символов[136].
Но еще до войны работа в библиотеке прерывалась поездками Гомбриха обратно в Вену, так как необходимо было завершить книгу о карикатуре. Книгу удалось закончить, но опубликована она не была[137]. Причина тому – позиция Заксля, с одной стороны стимулировавшего работу, а с другой – полностью проигнорировавшего ее результаты из-за занятости. Он так ее и не прочел, поручив это какому-то рецензенту, который оказался непримиримым противником психоанализа – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В конце концов, когда библиотека переехала на новое место, какая-либо работа оказалась невозможной: запакованные на время переезда документы стали попросту недоступны. И Гомбрих переходит на преподавательскую работу в Институт Курто[138], где читает лекции о Вазари (фактически возобновляя на новом месте семинары Шлоссера, а также свой курс, подготовленный еще в 1938 г.[139]), работает вместе с Курцем над учебным пособием по иконографии («так или иначе сделанным», но так и не опубликованным, хотя были написаны заметки о соответствующих категориях: эмблеме, аллегории, символе, натюрморте, мифологии и т. д.).
Война и прослушка
Гомбрих вспоминает об откровенно благодушном отношении к Гитлеру многих своих знакомых – и поначалу, и уже перед самой войной[140]. Например, Курц весной 1933 г., уже после избрания Гитлера, не побоялся перебраться из Вены в Гамбург для работы в тогда еще не вывезенной Библиотеке Варбурга, став, по его же собственным словам, «единственным евреем, иммигрировавшим в Германию при нацистах»[141]. Правда, уже в конце того же года вместе с библиотекой он благополучно оказывается в Лондоне. Один лишь Крис, как отмечает Гомбрих,
был убежден в необходимости бороться с апатией и ложным оптимизмом…[142]
Тем не менее война, в которую многие не хотели верить (если только это предмет веры), все-таки разразилась и внесла немалые коррективы и в планы, и в труды: начинается шестилетнее сотрудничество (по рекомендации Криса) с секретной Службой мониторинга Британской радиовещательной корпорации (ВВС), располагавшейся в Ившеме (Ворчестер).
Работа нелегкая – тяжкий труд, долгие часы, сильное давление, но я был счастлив.
Чуть дальше, правда, Гомбрих говорит о «рабстве у Службы мониторинга»[143]. Он проверял и анализировал результаты прослушки радиоэфира, записанные с целью перехвата и перевода немецкого вещания и выявления важных сведений. Они записывались на специальные восковые диски (не хватало только античного стилуса!) и воспроизводились с помощью приспособления, родственного простому граммофону (основное содержание подобных передач – речи Гитлера и Геббельса).
Хотя кто знает, не довелось ли ему слышать и цикл передач такого «коллаборациониста», как Вудхауз, тогда же выступавшего по немецкому радио? Не похоже ли это в зеркальном отображении на ситуацию Гомбриха? Стал ли бы тот сотрудничать с немцами, если бы не угроза жизни? И стал бы Гомбрих английским патриотом, профессором всех мыслимых университетов и лауреатом всевозможных премий, если бы не угроза голода? В период работы Гомбриха на радио ситуация была для него и его семьи по-настоящему критическая. Достаточно сказать, что его отец был интернирован и провел в английском лагере некоторое время в 1940 г. Отто Курц и тот не избежал подобной участи «враждебного иностранца» весной 1940 г.![144]
Гомбрих не испытал ничего подобного только потому, что открыто и продуктивно сотрудничал с разведкой. И надо думать, он вполне отдавал себе в этом отчет до конца своей жизни:
Я не ощущаю себя англичанином; я чувствую себя именно тем, кем я являюсь, – центральноевропейцем, работающим в Англии; благодаря службе на BBC я всего лишь изрядно выучил английский[145].
…В Ившеме он сначала жил один, лишь позднее смог вызвать туда и семейство. Семейство обитало у местных жителей, которые откровенно побаивались странных иностранцев, к тому же нуждавшихся каждый день в горячей ванне. Это, по их мнению, было признаком как раз их сильнейшей нечистоты, а вовсе не чистоплотности – никак не могут, мол, отмыться… Через 6 месяцев Гомбрих с семьей переселился в загородный коттедж к знакомому друзей, который в свою очередь не мог понять, как их гость может, например, спать после 10 часов утра. (Гомбрих всего-навсего возвращался с ночных дежурств после четырех, не распространяясь о роде своей работы). Когда Служба перехвата переехала в Рединг, положение стало еще хуже: в городе иностранцы («мы были вражескими чужаками») просто не имели права выходить из дому. Гомбрих один имел такое право по долгу службы и мог ездить на велосипеде от дома до работы и обратно.
Положение дел слегка улучшилось лишь тогда, когда Гомбриха повысили до старшего ответственного службы прослушивания: сам он уже ничего не слушал, а «смотрел, как слушают другие»[146]. В дальнейшем, заметим от себя, Гомбриху по ходу его сугубо научной активности стала доступной и ситуация следующего по смыслу и содержанию порядка: он мог видеть, как слушают другие, как уже он сам говорит или, вернее сказать, вещает…
И именно он первый в Англии узнает о смерти Гитлера и сообщает об этом Черчиллю[147]. Вот, кстати говоря, пример интерпретации в действии: Гомбрих услышал вначале предуведомление немецкого радио о готовящемся важном сообщении, и тут же заиграла печальная мелодия – симфония Брукнера, написанная на смерть Вагнера. Дабы сообщение – как только оно прозвучит – было немедленно отправлено, Гомбрих заранее на кусочке бумажки написал возможные варианты продолжения, догадавшись приблизительно о том, что прозвучит в дальнейшем: «Гитлер сдался» или «Гитлер мертв». Немецкий же диктор сказал вскоре следующее:
…наш Фюрер пал в неравной борьбе с большевизмом.
Комментарий Гомбриха, обращенный к собеседнику, характерным образом переводит эмоции в оценку и звучит так:
Вам кажется это воспоминание мрачным, мне же оно представляется, наоборот, самым великим событием, в котором я когда-либо участвовал[148].
Упомянутое выше эссе «Миф и реальность…» – именно на эту тему, и в нем используется материал обширного официального меморандума Гомбриха, обсуждающего проблемы, с которыми он столкнулся во время своей секретной работы, хотя это было не резюме о проделанной работе, а «размышления о природе пропаганды»[149].
Существен в вышеприведенной цитате оборот «наоборот»: это обращенность и обратимость эмоционального содержания опыта – не в интеллектуальное, как можно предположить у ученого, а в оценивающее усилие, что и есть важнейшая специфика Гомбриха и именно его способа построения научного дискурса. «Так я стал посланником», – резюмирует он этот пассаж, который можно сравнить в связи с оценкой «Истории искусства» как не просто популярного, а популяризаторского текста с его замечанием касательно своего культурного «миссионерства». Примечательно и показательно, что для Гомбриха собственная вовлеченность в событие делает его, это событие, вовсе не ужасным, а, например, интересным, достойным обсуждения и оценивания (эмоция компенсируется, так сказать, аксиологическим усилием, актом оценивающей воли). А с другой стороны, именно вовлеченность – средство преодоления ужаса и зависимости, так как изнутри Я еще может влиять, а снаружи – лишь страдать, созерцая в бессилии собственное бессилие… Сказанное релевантно и в связи с проблемой взаимоотношения пафоса и толкования, надо думать, преломленной сквозь объект-теорию постфрейдовского психоанализа. Хотя и не без попперовского анализа «ситуационной вовлеченности» любого познавательного акта, прежде всего научного[150].
Пример подобной связки эпистемологии и аксиологии, кстати говоря, – характеристика того же Криса, который был верным учеником Анны Фрейд и, по словам Гомбриха,
из-за склонности большинства английских аналитиков, последователей Мелани Кляйн, изучать бессознательные фантазии психики везде и всюду неуклонно делал акцент на области, именуемой эго-психологией, на факторах защиты и контроля, которыми зачастую пренебрегали в тех самых вульгарных обзорах, что так ему претили[151].
…Именно тогда Гомбрих, отчасти по долгу службы, как мы уже выяснили, начинает серьезно изучать английский, не совсем безупречный, по его собственному признанию, в то время, но вскоре – и на всю оставшуюся жизнь – ставший блестящим и даже блистательным[152].
В дальнейшем подобного рода деятельность, так сказать, дешифровщика-оценщика стала для Гомбриха по-настоящему парадигматической: знание – это как перевод с одного языка на другой услышанного или подслушанного сквозь бессмысленный и бесполезный шум или даже сквозь непрестанную речь, в которой есть вещи не только не совсем понятные, но и просто не интересные. Например, непонятно (хотя и интересно), где открывается правда, а где притаилось нечто иное: Гомбрих помнит, как он с ужасом вслушивался в ликующие голоса немецких летчиков в небе Лондона, восторженно сообщавших об удачно сброшенных бомбах, – достоверность их радостных донесений он мог проверить только спустя два года по возвращении в этот самый город, казавшийся ему уже не существующим, но на самом деле – вполне устоявший…[153]
Подобная ситуация, когда эмпирическая верификация оказывается отложенной, заставляет думать о совсем иных критериях истины… Иногда невероятной и неважной кажется информация, просто не соответствующая исходным ожиданиям: Гомбрих вспоминает, как однажды в эфире звучала речь римского понтифика, который, как это ни странно, поминал почему-то одни лишь «атомы» – и ничего более… Никто не мог понять: при чем тут папа и атомы? На самом деле папа всего лишь открывал физическую лабораторию в Ватикане. Никто тогда не мог себе представить, замечает Гомбрих, насколько скоро разговор об атомной энергии станет «самым важным» и насколько важно было запомнить, что папа говорил на эту тему в начале войны…[154] Так что можно сказать, что один из аспектов интерпретации – дешифровка символов ожидания и правил знакомства, за которыми – усердная и усредненная, а потому бессознательная «фильтрация эфира».
Между прочим, такой подход очень удобен ввиду многочисленных критиков: возражения всего лишь как помехи для восприятия собственной непогрешимости (или фон, оттеняющий уникальность личных достижений).