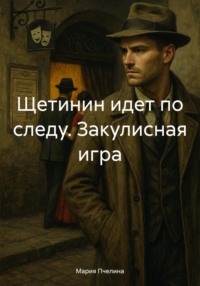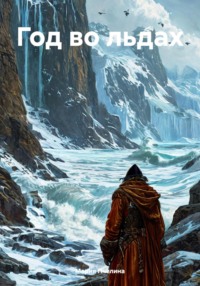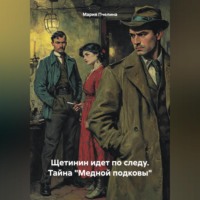Полная версия
Тени невидимого
«Эй, ты!» – крикнул он, но голос сорвался. Русалка повернула голову, улыбнулась – и исчезла в воде, оставив круги на поверхности. Семен бросился за ней, не думая о топи. Сеть зацепилась за тростник, он рванул её, проваливаясь по колено в грязь. Песня звучала громче, теперь со всех сторон, и в воде мелькали тени – их было больше, чем одна. Он видел их руки, тонкие, с перепонками, видел их глаза, что звали его глубже.
«Я докажу!» – хрипел он, шаря в воде. Но болото тянуло вниз. Грязь засасывала сапоги, холодная вода заливала грудь. Он чувствовал, как что-то коснулось его ноги – скользкое, живое. Паника сдавила горло. Он закричал, но тростники заглушили звук. Песня стала оглушительной, и в последний момент, когда вода сомкнулась над его головой, он увидел их – десятки русалок, окруживших его в глубине. Их смех был последним, что он услышал.
Наутро деревенские нашли только сеть, зацепившуюся за корягу, и крест, утонувший в грязи. Семена искали неделю, но болото молчало. Старухи шептались, что он стал добычей «болотных дев», а мужики в кабаке больше не смеялись, только крестились, глядя на трясину. В ясные ночи, говорят, над заводью всё ещё звучит песня, а в воде мелькают тени, что ждут новых гостей.
Старик в чаще
Лес стонал под напором осеннего ветра, и листья, багряные, как кровь, кружились в воздухе. Дмитрий Иванович, купец из губернского города, шагал по тропе, проклиная всё на свете. Его карета сломалась на тракте, кучер сбежал за помощью, а он, не желая мёрзнуть в одиночестве, решил срезать путь через лес до ближайшей деревни. Теперь, когда солнце клонилось к закату, а тропа растворялась в чаще, он понял, что заблудился. В кармане отяжеливал револьвер, но против лесной тьмы он казался бесполезным.
Сумерки сгущались, и холод пробирал до костей. Дмитрий, сбивая дыхание, ломился сквозь кусты, пока не наткнулся на огонёк. В ложбине, у костра, сидел старик – тощий, в лохмотьях, с бородой, белой, как первый снег. Его глаза, глубоко запавшие, блестели в свете пламени. На коленях лежала резная трость, а рядом – котомка, будто он был странником, вечным скитальцем.
«Эй, дед! – рявкнул Дмитрий, подходя ближе. – Где тут деревня? Говори, не тяни!» Старик медленно поднял взгляд, и его улыбка – тонкая, почти нечеловеческая – заставила купца поёжиться. «Далеко, барин, – прошелестел он, – но могу показать… за плату». Дмитрий фыркнул, раздражённый. «Какая плата, старый хрыч? Веди, или пожалеешь!» Он тряхнул револьвером для пущей убедительности. Старик лишь хмыкнул, поднялся, опираясь на трость, и молча указал в темноту. «Туда», – сказал он и исчез в тенях, будто растворился.
Дмитрий, ругаясь, пошёл в указанном направлении. Лес, казалось, ожил: ветки хлестали по лицу, корни цеплялись за сапоги, а где-то в отдалении выл волк – или не волк. Он чувствовал взгляд, тяжёлый, как камень, но, оборачиваясь, видел лишь тьму. Тропа петляла, уводя всё глубже, и вскоре он понял, что идёт по кругу. Огонёк костра мелькнул снова, но старика там не было – только трость, воткнутая в землю, и следы, слишком большие для человека.
Паника сдавила горло. Дмитрий кричал, стрелял в воздух, но лес глушил звуки. Он бежал, спотыкаясь, пока не рухнул на мох, задыхаясь. В темноте над ним нависла тень – высокая, сгорбленная, с глазами, горящими, как угли. «Грубость твоя, барин, – прошелестел голос старика, – плата моя». Дмитрий закричал, но тень сомкнулась над ним, и мир погас.
Наутро его нашли на опушке, у самой деревни. Он лежал навзничь, с широко открытыми глазами, седой, как лунь, и мёртвый. Лицо застыло в гримасе ужаса, а в руке, сжатой до хруста, был клочок мха, пропитанный чем-то чёрным, как смола. Крестьяне шептались, что это дело «лесного деда», хозяина чащи, что не терпит хамства. Трость, говорят, нашли в ложбине, но никто не решился её тронуть. Лес молчал, но в осенние ночи, когда ветер завывал в ветвях, казалось, что кто-то хмыкает в темноте, выжидая новых гостей.
Ночь на тракте
Ночь навалилась на тракт тяжёлой пеленой, и звёзды, будто напуганные, прятались за рваными облаками. Карета, скрипя колёсами, катилась по разбитой дороге, а фонари, качаясь, бросали дрожащие блики на придорожные кусты. Пётр Андреевич, купец средней руки, нервно теребил перчатки, сидя внутри. Его спутник, приказчик Егор, дремал, храпя в углу. Дела в губернском городе пошли скверно, но кошель, спрятанный под половицей кареты, всё ещё оттягивал карман золотом. Пётр надеялся добраться до постоялого двора к утру, но в груди ворочалось недоброе предчувствие.
Кучер, бородатый мужик с обветренным лицом, вдруг натянул вожжи. Лошади заржали, карета встала. «Что там?» – рявкнул Пётр, высунувшись в окно. Кучер, не оборачиваясь, пробормотал: «Огни, барин. Впереди». На дороге, саженях в двадцати, мерцали факелы – три, может, четыре. Тени двигались, и до кареты донёсся хриплый смех. Пётр почувствовал, как холод ползёт по спине. Разбойники.
«Гони!» – крикнул он, но кучер только покачал головой. «Не уйти, барин. Лошади загнаны». Егор проснулся, вытаращил глаза. Пётр нашарил под сиденьем револьвер, но пальцы дрожали. Факелы приближались, и теперь он видел фигуры – человек пять, в рваных армяках, с саблями и ружьями. Один, высокий, с чёрной повязкой на глазу, шагнул вперёд. Его голос, низкий, с хрипотцой, резанул тишину: «Вылезай, купчишка. Добром просим».
Пётр, стиснув зубы, вылез. Егор остался в карете, бормоча молитвы. Разбойники окружили, их лица, освещённые факелами, казались звериными. Одноглазый ухмыльнулся, ткнув саблей в сторону кареты. «Кошель где? Не дури, а то кишки выпущу». Пётр, пытаясь выиграть время, начал мямлить о пустых карманах, но кучер, предательски быстро, указал на половицу. «Там, атаман, всё там!»
Разбойники разворотили карету, вытащили кошель, но одноглазый не спешил уходить. Он смотрел на Петра, и в его единственном глазу мелькало что-то недоброе. «Ты, купец, везучий, – сказал он, – но везение кончается». Пётр вскинул револьвер, но выстрелить не успел – кто-то ударил его сзади по голове. Мир закружился, и он рухнул в грязь.
Очнулся он от холода. Карета пылала, чёрный дым валил в небо. Егор лежал рядом, с перерезанным горлом, а кучера и след простыл. Разбойники исчезли, но в кустах что-то хрустело, будто кто-то следил. Пётр, шатаясь, побрёл по тракту, сжимая револьвер. Ноги подкашивались, кровь текла из виска. Он слышал шаги за спиной, видел тени, что мелькали в темноте. «Кто там?» – крикнул он, но голос сорвался. Смех – тот же хриплый, что у одноглазого, – донёсся из леса.
К утру он выбрался к постоялому двору, но сил идти дальше не было. Он рухнул у ворот, шепча о разбойниках и огнях. Хозяин, найдя его, перекрестился: Пётр был жив, но глаза его, полные ужаса, смотрели в пустоту. К вечеру он умер, не сказав больше ни слова. Крестьяне шептались, что это не просто разбойники были, а «люди леса», что забирают не только золото, но и души. На тракте с тех пор обходили то место стороной, а в безлунные ночи, говорят, всё ещё видят факелы и слышат хриплый смех, зовущий в темноту.
Проклятие кургана
Густой туман стелился над степью, где-то вдали выли волки. Лагерь археологов, разбитый у подножия древнего кургана, казался единственным островком жизни в этом заброшенном уголке Российской империи. Масляные лампы тускло горели в палатках, отбрасывая дрожащие тени на холщовые стены. Профессор Иван Сергеевич Лебедев, человек с седыми висками и усталыми глазами, сидел за складным столом, перебирая пожелтевшие карты и записи. Его экспедиция, финансируемая Петербургским университетом, уже месяц копала этот курган, но находки были скудны: несколько глиняных черепков да ржавый наконечник стрелы. Однако что-то в этом месте не давало ему покоя.
– Иван Сергеевич, – в палатку заглянул молодой помощник, Алексей, с лицом, бледным, как полотно. – Там… в раскопе… мы нашли дверь.
– Дверь? – Лебедев нахмурился, отложив бумаги. – Какую ещё дверь?
– Каменную. С резьбой. Она под слоем земли, но… она заперта.
Профессор поднялся, накинул шинель и последовал за Алексеем. Ночь была холодной, ветер пробирал до костей. У раскопа уже собрались рабочие, их лица освещал свет фонарей. В центре ямы, на глубине трёх аршин, действительно виднелась массивная каменная плита, покрытая странными символами, похожими на руны, но не принадлежавшими ни к одному известному алфавиту. Лебедев опустился на колени, проводя пальцами по холодной поверхности. Символы будто пульсировали под его прикосновением.
– Это не скифы, – пробормотал он. – И не хазары. Это… старше.
– Открывать будем? – спросил Алексей, но в его голосе сквозил страх.
Лебедев молчал. Что-то внутри подсказывало ему, что эту дверь лучше не трогать. Но любопытство, то самое, что привело его в археологию, оказалось сильнее.
– Ломы и кирки, – скомандовал он. – Работайте осторожно.
К утру плита поддалась. За ней открылся узкий туннель, уходящий вглубь кургана. Воздух, вырвавшийся из прохода, был тяжёлым, с металлическим привкусом. Лебедев, Алексей и двое рабочих, вооружённые фонарями, спустились вниз. Стены туннеля были покрыты барельефами: фигуры в странных одеждах, с лицами, скрытыми масками, совершали неведомые ритуалы. Чем глубже они шли, тем сильнее нарастало чувство тревоги.
Туннель привёл в круглую камеру. В центре возвышался саркофаг из чёрного камня, окружённый кольцом из двенадцати статуй. Каждая статуя изображала человека с закрытыми глазами, но их лица казались живыми, словно они спали. На крышке саркофага была вырезана надпись на том же неизвестном языке. Лебедев достал блокнот, торопливо зарисовывая символы.
– Это не просто гробница, – прошептал он. – Это… храм.
– Профессор, – голос Алексея дрожал. – Статуи… они… смотрят на нас.
Лебедев обернулся. Глаза одной из статуй, ещё минуту назад закрытые, теперь были открыты. Бездонные, чёрные, они смотрели прямо на него. Сердце профессора замерло. Он хотел крикнуть, но голос застрял в горле. В тот же момент раздался низкий гул, и саркофаг начал медленно открываться.
– Бежим! – закричал Алексей, но было поздно. Из саркофага поднялась тень – не человек, не зверь, а нечто, сотканное из мрака. Рабочие бросились к туннелю, но тень двигалась быстрее. Их крики оборвались в мгновение.
Лебедев и Алексей прижались к стене, фонарь профессора дрожал в руке. Тень остановилась, её пустые глаза уставились на них. Она не нападала, но её присутствие словно высасывало жизнь. Лебедев почувствовал, как его мысли путаются, как воспоминания о прошлом растворяются в холодной пустоте.
– Что… ты… хочешь? – выдавил он.
Тень не ответила. Вместо этого она указала на надпись на саркофаге. Лебедев, борясь с ужасом, посмотрел на свои записи. Символы, которые он зарисовал, начали складываться в слова. Не на русском, не на латыни, но он каким-то образом понимал их: "Тот, кто откроет, станет стражем. Тот, кто откажется, исчезнет."
– Профессор, мы должны уйти! – Алексей тянул его к выходу, но Лебедев не двигался. Он смотрел на тень, на статуи, на саркофаг. Он понял. Это место не было гробницей. Это была тюрьма. И теперь он стал её частью.
– Беги, Алексей, – тихо сказал он. – Беги и забудь.
Алексей, спотыкаясь, бросился к туннелю. Он выбрался на поверхность, задыхаясь от ужаса. Лагерь был пуст – рабочие исчезли, палатки были разорваны, словно когтями. Он бежал, не оглядываясь, пока не добрался до ближайшей станицы. Там он рассказал о случившемся, но ему не поверили. Курган объявили проклятым, и никто больше не решался туда вернуться.
Годы спустя, в архивах Петербургского университета нашли дневник Лебедева. Последняя запись гласила: "Я – страж. Я не могу уйти. Оно не спит." Курган так и стоит в степи, окружённый туманом. Говорят, в безлунные ночи оттуда доносятся шаги. И те, кто осмеливается подойти ближе, видят тень человека с седыми висками, который смотрит на них пустыми глазами.
Жук в янтаре
Туман стелился по булыжным мостовым Санкт-Петербурга, словно дыхание призраков. Фонари, тусклые, как глаза умирающего, едва пробивали мглу. В такие ночи город казался живым, но не добрым – он шептал, скрипел ставнями, звенел цепями в закоулках. Иван Петрович, отставной поручик, шагал по набережной Фонтанки, кутаясь в шинель. Его шаги гулко отдавались в тишине, но что-то ещё – едва уловимое, словно шорох крыльев, – следовало за ним.
Он остановился, прислушиваясь. Ничего. Только плеск воды да далёкий лай собак. Иван Петрович тряхнул головой, отгоняя наваждение. Слишком много рома в таверне, слишком много историй о проклятых домах и тварях, что ползают в тенях. Он ускорил шаг, но шорох не отставал. Теперь он был ближе, отчетливее – словно кто-то скрёб когтями по камню.
Иван Петрович резко обернулся. Никого. Только туман, густой, как молоко, и тени, что казались живыми. Он сжал трость, чувствуя, как пот холодит спину. «Чушь, – пробормотал он. – Чушь и нервы». Но сердце билось, как у загнанного зверя.
Всё началось неделю назад, когда он нашёл его. В антикварной лавке на Садовой, среди пыльных книг и ржавых медалей, лежал кусок янтаря размером с кулак. Внутри, словно в ловушке вечности, застыло насекомое – жук с чёрным панцирем и длинными, изогнутыми жвалами. Хозяин лавки, старик с глазами, как у ворона, сказал, что янтарь – из Курляндии, из старого поместья, где «случались вещи». Иван Петрович, смеясь, купил безделушку за пятак. Теперь она лежала в кармане его сюртука, тяжёлая, холодная, будто живая.
Дома, в тесной квартире на Моховой, он разглядывал находку при свете лампы. Жук внутри янтаря казался не мёртвым, а спящим. Его глаза – крошечные, красные, как капли крови – смотрели прямо на Ивана. Он отложил янтарь, но ночью ему приснилось, что жук шевелится, скребётся, пытаясь выбраться. Утром он обнаружил царапины на столе, где лежал камень. Тонкие, словно от иглы, но глубокие.
Теперь шорох был повсюду. В стенах, под полом, в углах. Иван Петрович перестал спать, боясь закрыть глаза. Он видел тени, что двигались, когда не должны были, слышал шёпот, которого не могло быть. Он пытался избавиться от янтаря – бросил его в Фонтанку, но наутро нашёл его на своём столе, сухим, холодным, с жуком, который, казалось, смотрел с укором.
Этой ночью он шёл к отцу Сергию, священнику из церкви на Лиговке. Говорили, тот умеет изгонять бесов. Иван Петрович сжимал янтарь в кармане, чувствуя, как тот пульсирует, словно сердце. Шорох за спиной стал громче, теперь он был уверен – это не ветер, не крысы. Это оно. То, что жило в янтаре, то, что выбралось.
Он побежал. Туман клубился, фонари гасли один за другим. Шаги его гремели, но шорох был быстрее, ближе. Иван Петрович споткнулся, упал, выронив янтарь. Камень покатился по мостовой, и в тусклом свете он увидел, как жук внутри шевельнулся. Его жvala задвигались, панцирь треснул, и что-то чёрное, блестящее, размером с кошку, поползло к нему.
Он закричал, но туман поглотил звук. Трость выпала из рук, пальцы онемели. Жук – если это был жук – двигался медленно, но неотвратимо. Его глаза горели, как угли, а шорох теперь был везде, в голове, в груди, в костях. Иван Петрович полз назад, пока не упёрся в перила набережной. Холодная вода Фонтанки плескалась внизу, зовя, обещая покой.
Он не помнил, как прыгнул. Только холод, тьма и шорох, который не стихал, даже когда вода сомкнулась над головой.
Наутро дворник нашёл на набережной трость и кусок янтаря. Жук внутри выглядел так же – неподвижный, мёртвый, с красными глазами. Дворник пожал плечами и сунул находку в карман. К вечеру он заметил шорох. Тонкий, едва уловимый, словно кто-то скрёб когтями по камню.
Камень в ночи
Лето в посёлке у реки было тихим, как всегда. Мишка и Серёга, два неразлучных друга тринадцати лет, целыми днями пропадали на берегу, выискивая приключения. В тот день они копались в песке у старого моста, когда Серёга наткнулся на что-то твёрдое. Он вытащил из земли гладкий чёрный камень, размером с куриное яйцо, с едва заметными красными прожилками, похожими на вены. Камень был холодным, даже под палящим солнцем, и странно тяжёлым.
– Смотри, какой крутой, – сказал Серёга, поворачивая находку в руках. – Прямо как из космоса.
Мишка потрогал камень и тут же отдёрнул руку. – Жуткий он какой-то. Будто… смотрит.
– Не выдумывай, – рассмеялся Серёга. – Давай хранить его по очереди. Неделю у меня, неделю у тебя. Как сокровище.
Мишка нехотя согласился. Они решили, что первым камень возьмёт Серёга. Договорились встретиться утром, чтобы обсудить, как будут его прятать.
Ночью Мишка проснулся от странного чувства. Ему приснилось, что Серёга стоит у его кровати, держа тот самый камень, а глаза у друга пустые, как у мёртвой рыбы. Мишка отмахнулся от сна и попытался уснуть, но тревога не отпускала.
Утром он побежал к дому Серёги. Дверь была открыта, а в комнате царил хаос: перевёрнутый стул, разбитая лампа. На кровати лежал Серёга – бледный, с остановившимся взглядом. Его мать рыдала, а соседка шептала что-то про сердечный приступ. Мишка замер, чувствуя, как холодеют пальцы. На тумбочке рядом с кроватью лежал тот самый камень. Его красные прожилки, казалось, пульсировали.
На похоронах Мишка не мог отвести взгляд от гроба. Он знал, что должен что-то сделать. Ночью, перед тем как гроб заколотили, он пробрался в дом Серёги, где проходило прощание. Дрожащими руками он положил камень в карман пиджака друга, лежащего в гробу. «Прости, Серёга, – прошептал он. – Это из-за него».
На следующую ночь Мишка не спал. Он ждал. В темноте ему чудились шорохи, шёпот, шаги. К утру он решил, что всё это ему почудилось. Камень остался с Серёгой, и теперь всё будет в порядке.
Но через неделю, копаясь в своих вещах, Мишка замер. На дне рюкзака лежал чёрный камень с красными прожилками. Он был холодным, как та ночь. И, клянусь, он смотрел.
Жало шмеля
Туман стелился над болотами, словно саван, укрывая сырую землю Российской империи. Где-то в глуши, в забытой богом губернии, стоял старый господский дом, окруженный зарослями терновника и кривыми соснами. Ветер выл в щелях, а в окнах, покрытых пылью, отражались тусклые огни свечей. В этом доме, принадлежавшем отставному штабс-капитану Григорию Ивановичу Волкову, и началась эта история.
Григорий Иванович был человеком суровым, с лицом, изрезанным морщинами, как кора старого дуба. После службы он поселился в усадьбе, доставшейся от отца, и вел жизнь уединенную. Местные крестьяне обходили его дом стороной, шептались о странных звуках, доносящихся из окон по ночам, и о том, что Волков якобы продал душу за неведомые знания. Но никто не знал правды. Никто, кроме шмеля.
В тот вечер, когда всё началось, Григорий Иванович сидел в своем кабинете, заваленном книгами и пожелтевшими картами. На столе лежал странный предмет – латунный цилиндр с выгравированными символами, похожими на руны. Волков называл его "машиной". Он утверждал, что она способна заглянуть в саму ткань мира, в то, что скрыто от глаз смертных. Но машина молчала уже много лет. До этой ночи.
За окном раздался низкий, почти нечеловеческий гул. Григорий Иванович замер, его рука, державшая перо, дрогнула. Гул нарастал, словно кто-то бил в невидимый барабан. Он подошел к окну, вглядываясь в туман. И тогда он увидел его – шмеля, огромного, размером с кулак, с крыльями, что блестели, как черное стекло. Насекомое зависло в воздухе, глядя на Волкова немигающими глазами. Григорий почувствовал, как холод пробирает его до костей.
– Что ты такое? – прошептал он, но ответа не последовало. Шмель медленно приблизился к стеклу, и его крылья издали звук, похожий на шепот. Волков отступил, споткнувшись о стул. В ту же секунду машина на столе загудела, ее шестерни пришли в движение, а руны засветились зеленоватым светом.
С той ночи шмель стал его тенью. Он появлялся в самые неожиданные моменты: то кружил над крышей, то сидел на подоконнике, то следовал за Волковым, когда тот осмеливался выйти в лес. Крестьяне, заметившие насекомое, крестились и спешили уйти. Они говорили, что это не шмель, а посланник иного мира, что он пришел за душой Волкова. Но Григорий не верил в сказки. Он был человеком науки, человеком разума. И все же страх грыз его сердце.
Машина работала теперь каждую ночь. Она издавала звуки, похожие на стоны, и показывала образы – тени, что двигались в зеленом свете, словно живые. Волков видел города, которых не существовало, машины, что летали по небу, и лица, искаженные болью. Но чаще всего он видел шмеля. Его глаза, его крылья, его жало, будто сотканное из металла. И каждый раз, когда образ шмеля появлялся, машина дрожала, словно от ужаса.
Однажды ночью Волков не выдержал. Он схватил молот и с криком обрушил его на машину. Латунь треснула, шестерни разлетелись, а зеленый свет угас. Но шмель не исчез. Он был там, за окном, и его гул стал громче, чем когда-либо. Волков бросился к двери, но она не поддавалась. Окна захлопнулись сами собой. Туман проник в дом, заполняя комнаты, и в этом тумане шмель казался гигантом.
– Чего ты хочешь?! – закричал Григорий, но голос его утонул в гуле. Шмель приблизился, и Волков увидел, что его тело покрыто не шерстью, а крошечными символами, такими же, как на машине. Насекомое раскрыло жало, и в ту же секунду Григорий почувствовал, как его разум разрывается. Он видел всё: прошлое, будущее, миры, что никогда не существовали, и миры, что существовали слишком долго. Он видел, как шмель проникает в его душу, переписывая её, словно книгу.
Наутро крестьяне нашли усадьбу пустой. Дверь была распахнута, окна разбиты, а в кабинете, среди обломков странной машины, лежал лишь один предмет – огромный, мертвый шмель, чьи крылья всё ещё блестели, как черное стекло. Волкова никто никогда не видел. Но в туманные ночи, когда ветер воет над болотами, местные до сих пор слышат низкий гул. И те, кто осмеливается взглянуть в туман, клянутся, что видят тень шмеля, парящего над заброшенным домом.
Проявка негатива
Вечер в Москве был сырым, с привкусом угольного дыма и мокрых мостовых. Уличные фонари едва пробивали мглу, их свет дрожал в лужах, словно пытаясь убежать от надвигающейся тьмы. В одном из переулков Замоскворечья, в старом особняке с облупившейся штукатуркой, фотограф Артём Вяземский готовил свою мастерскую к ночной работе. Его студия, пропахшая химикатами и старым деревом, была завалена стеклянными пластинами, медными штативами и тяжелыми бархатными портьерами, которые поглощали любой звук.
Артём, худощавый мужчина с усталыми глазами и вечно растрепанными волосами, был известен в узких кругах. Его снимки отличались странной, почти пугающей ясностью: лица на портретах казались живыми, а тени за ними – слишком глубокими. Говорили, что он умеет "ловить душу" через объектив. Но в последнее время заказов почти не было. Люди шептались, что после его сеансов с ними случается что-то странное: то кошмары, то пропажи мелких вещей, то ощущение, будто кто-то следит из темноты.
Этим вечером к нему пришел неожиданный гость. Дверь скрипнула, и в студию вошел человек в длинном пальто, с лицом, скрытым полями шляпы. Он молча положил на стол ассигнацию и листок с адресом.
– Одна фотокарточка, – голос был низким, с хрипотцой. – Сегодня. Я пришлю человека. Снимок должен быть готов к утру.
Артём кивнул, не задавая вопросов. Деньги были хорошие, а любопытство в его деле было опасной роскошью. Гость ушел, оставив за собой запах сырости и чего-то еще – едкого, как горелый воск.
К полуночи в дверь постучали. На пороге стояла женщина. Ее лицо, бледное, с резкими скулами, казалось вырезанным из мрамора. Черное платье с высоким воротом скрывало шею, а руки она держала в муфте, будто боялась прикоснуться к чему-либо. Она назвалась Анной и, не глядя Артёму в глаза, попросила сделать портрет.
Он усадил ее перед объективом, зажег магниевую вспышку, и комната озарилась резким светом. Женщина сидела неподвижно, но Артёму показалось, что тени за ней шевельнулись, словно кто-то прошел за ширмой. Он отмахнулся от наваждения – старый дом был полон сквозняков.
Сеанс прошел быстро. Анна ушла, не сказав ни слова, а Артём занялся проявкой. В темноте лаборатории, под красным светом лампы, он опустил пластину в раствор. Изображение проступало медленно, будто нехотя. Сначала глаза – пронзительные, почти светящиеся. Потом скулы, губы… и что-то еще. На заднем плане, там, где должна была быть пустая стена, проступала фигура. Смутная, но явно человеческая. Она стояла за Анной, чуть наклонив голову, словно заглядывая ей через плечо.
Артём замер. Он проверил пластину – никаких дефектов. Сделал еще одну копию, но фигура появилась снова, теперь чуть четче. Ее лицо было размытым, но глаза… они смотрели прямо на него. Сердце заколотилось. Он вспомнил слухи о своих снимках, о том, что они "видят больше, чем надо".
В ту ночь он не спал. Утром, как было велено, он оставил фотокарточку в условленном месте – заброшенной часовне неподалеку. Но копию спрятал. Не для продажи, не для показа – для себя. Ему нужно было понять.