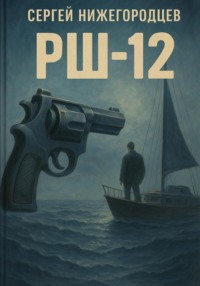Полная версия
Избранный. Часть 1 – Тихомирье

Сергей Нижегородцев
Избранный. Часть 1 – Тихомирье
Глава 1
Боль пришла прежде сознания – вонзилась в плоть раскаленным клинком, вырывая Всеслава из глубин забытья. Он рвано вдохнул, силясь наполнить лёгкие воздухом, но невидимый обруч стянул грудь, не позволяя расправить рёбра. Тысячи раскалённых игл впились в спину, прошивая каждый позвонок.
Всеслав попытался сжать кулаки – пальцы не повиновались. Захотел перевернуться – тело осталось недвижимым, словно чужое. Страх кислотой разлился по венам.
Серая муть окутывала избу. Сквозь полуприкрытые веки он различал знакомые очертания родных стен – закопчённые балки потолка, печь в углу, старый сундук у стены. Предрассветный сумрак делал всё зыбким, нереальным.
– Вода… – прошептал он пересохшими губами, но вместо слов вырвался лишь сиплый хрип.
Память вспыхнула яркими образами. Вот он бежит по лесной тропе, ветер свистит в ушах. Вот ныряет в прохладную воду реки, рассекая её сильными руками. Вот поднимает над головой тяжёлый мешок с зерном, демонстрируя свою силу деревенским девчонкам.
А теперь… теперь даже простой вдох требовал невероятных усилий. Каждое мгновение превратилось в борьбу – борьбу за глоток воздуха, за каплю жизни.
Всеслав попытался повернуть голову – единственное, что ещё слушалось его. В углу комнаты дремала мать, сидя на низкой скамье. Осунувшееся лицо, седые пряди в тёмных волосах, которых он раньше не замечал. Руки её, даже во сне, сжимали маленький мешочек с травами – очередное средство, которое не поможет.
Тело, некогда сильное и послушное, предало его. Всеслав закрыл глаза, пытаясь сдержать подступившие слёзы бессилия. Неужели это всё? Неужели его судьба – лежать недвижимым бревном, пока жизнь медленно покидает его?
Тихий хрип вырвался из горла Всеслава, разрезая предрассветную тишину избы. Милава вздрогнула, мгновенно стряхнув с себя зыбкую дрёму. Глаза её, обведённые тёмными кругами бессонницы, распахнулись широко, тревожно. Мешочек с травами соскользнул с колен на земляной пол.
– Сынок? – прошептала она, уже поднимаясь с лавки.
Всеслав смотрел на мать сквозь полуопущенные веки. Она двигалась с той особой поспешностью, которую выработала за эти два месяца – быстро, но осторожно, словно боясь спугнуть саму жизнь, ещё теплившуюся в его теле.
Милава присела на край лежанки, её прохладная ладонь легла на его лоб. Всеслав ощутил, как мать слегка вздрогнула – жар снова усилился за ночь.
– Горишь, соколик мой, – пробормотала она, убирая прилипшие ко лбу влажные пряди. – Сейчас, потерпи маленько.
Она потянулась к глиняному кувшину, стоявшему у изголовья, и наполнила деревянную чашу тёмным отваром. От жидкости поднимался горьковатый пар, наполняя воздух запахом полыни и ещё каких-то трав, названий которых Всеслав не знал.
– Испей, родной. Силы вернёт.
Милава бережно приподняла его голову, поднося чашу к губам. Рука её не дрожала, хотя Всеслав видел, каких усилий ей это стоило. Каждое движение матери было выверенным, словно она делала это тысячу раз – впрочем, так оно и было.
Горький отвар обжёг горло. Всеслав закашлялся, и несколько капель скатились по подбородку.
– Тише, тише, – шептала Милава, вытирая его лицо краем передника. – Помогает ведь, правда? Вчера ты дышал легче после него.
Всеслав не ответил. Он смотрел на мать – на новые седые нити в её косе, на потрескавшиеся от работы руки, на глубокие морщины, избороздившие некогда гладкий лоб. Эта женщина отдавала ему последние силы, выискивая по лесам целебные травы, не смыкая глаз ночами, выполняя работу, с которой не справились бы и двое здоровых мужчин.
Благодарность переплеталась с жгучим стыдом и горечью. Лучше бы она дала ему уйти в первые дни после падения. Лучше бы не мучила ни себя, ни его этой бесконечной борьбой с неизбежным.
Тяжёлые веки опустились сами собой. Всеслав позволил темноте обнять его, утягивая в глубины, где не было ни боли, ни бессилия, ни жалости в глазах самого дорогого человека.
Отвар горчил на языке, но Всеслав едва различал его вкус. Травы, собранные матерью с таким трудом, превращались в безвкусную жижу, стекающую по горлу. Никакого облегчения – только обещание, пустое, как и все предыдущие.
Боль вернулась, подкравшись незаметно. Сначала лёгкое покалывание в шее, затем жжение между лопатками, и наконец – огненная волна, прокатившаяся вдоль позвоночника. Всеслав стиснул зубы, но не смог сдержать тихого стона.
Ярость поднялась из глубины души – глухая, бессильная, направленная на собственное непослушное тело. Ещё два месяца назад он взбирался на самые высокие деревья, переплывал реку в самом широком месте, поднимал мешки, от которых кряхтели взрослые мужики.
Воспоминания нахлынули, словно весенний паводок. Вот он идёт с отцом по лесной тропе, корзины в руках покачиваются в такт шагам. Солнечные лучи пробиваются сквозь листву, рисуя узоры на влажной после утренней росы земле.
– Гляди-ка, Всеслав, – голос отца звучит в памяти так ясно, будто он стоит рядом. – Боровик-то какой! Царь грибов!
Всеслав помнил свою радость, когда первым замечал шляпку белого гриба среди мха и прошлогодних листьев. Помнил, как ловко срезал его острым ножом, как бережно укладывал в корзину. Помнил смех отца, его широкую ладонь, треплющую волосы.
Теперь же… Теперь он не мог даже почесать зудящий нос без помощи матери. Не мог сам поднести воду к губам. Не мог выйти во двор, чтобы взглянуть на небо.
Горечь подступила к горлу, сдавливая его сильнее любой болезни. Сердце сжалось в тугой комок, словно пыталось спрятаться от невыносимой правды: он никогда больше не пройдёт по лесу, не поплывёт по реке, не возьмёт в руки топор или косу.
Всеслав закрыл глаза, пытаясь сдержать подступившие слёзы. Лучше боль в теле, чем эта разрывающая душу тоска по утраченному. Лучше огонь в мышцах, чем это ледяное осознание полной беспомощности.
Ночь отступила, уходя за окоем, но Всеслав не мог точно сказать, когда сон отступил, а явь взяла верх. Граница между ними истончилась, как лёд на весеннем озере. Ещё мгновение назад он шёл по лесной тропе, ощущая под ногами мягкий мох, а пальцы его касались шершавой коры сосен. Он дышал полной грудью, втягивая хвойный воздух, наслаждаясь свободой движения. А теперь – снова деревянный потолок избы и тяжесть неподвижного тела.
Всеслав моргнул, пытаясь отогнать остатки видения. Но они не исчезали. Вместо этого лесные тени словно перетекли в углы комнаты, продолжая свой безмолвный танец на стенах. А шёпот… шёпот остался, тихий, как шелест листвы, непонятный, но настойчивый.
– Видишь? – спросил голос, которого не могло быть здесь. – Ты можешь ходить. Ты можешь бежать.
Всеслав зажмурился. Когда он открыл глаза, шёпот стих, но ощущение чужого присутствия осталось. Кто-то наблюдал за ним из-за невидимой грани.
– Это уже третий раз, – пробормотал он, удивляясь, как легко слова слетели с губ. В снах говорить было проще, чем наяву. – Третий раз я хожу во сне.
Сны становились всё ярче, всё отчётливее. В них он был прежним Всеславом – сильным, здоровым, способным взбежать на холм и перепрыгнуть через ручей. Но было в этих снах что-то ещё – что-то, чего не было в его прежней жизни. Тени, наблюдающие издали. Деревья, шепчущие на неведомом языке. Туман, принимающий очертания человеческих фигур.
– Они зовут меня, – прошептал Всеслав в пустоту комнаты. – Кто-то зовёт меня.
Мысль эта не пугала, скорее наоборот – приносила странное утешение. Если эти сны – не просто бред умирающего разума, если они имеют значение… может быть, его ждёт нечто большее, чем медленное угасание на этой лежанке?
Солнечный луч прорезал сумрак избы, коснулся его лица. Всеслав почувствовал тепло, но не увидел света – веки были слишком тяжёлыми. Образы сна всё ещё стояли перед глазами: лесная поляна, залитая лунным светом, и фигура на её краю, протягивающая руку.
Мир снова растворился, уступая место зыбким образам сна. На этот раз переход был мягче – словно Всеслав просто закрыл глаза в душной избе и открыл их уже в лесу. Хвойный запах ударил в ноздри, свежий и терпкий, наполняя лёгкие живительной силой. Земля под ногами пружинила, устланная мягким ковром из опавшей хвои и прошлогодних листьев.
Всеслав сделал шаг, потом второй, наслаждаясь простым чудом движения. Тело слушалось каждого импульса, каждого желания – легкое и сильное, как прежде. Он запрокинул голову, глядя на кроны деревьев, сквозь которые пробивались солнечные лучи, рисуя причудливые узоры на лесной подстилке.
Ветер коснулся его щеки прохладной ладонью, взъерошил волосы. Всеслав рассмеялся – громко, свободно, как не смеялся уже давно. Звук собственного смеха, отразившись от стволов деревьев, вернулся к нему эхом, многократно усиленным.
Он двинулся вперёд, ведомый каким-то внутренним чутьём. Ноги сами несли его по едва заметной тропе, словно тело помнило путь, о котором разум уже забыл.
Среди изумрудного мха Всеслав заметил жёлтую шляпку маслёнка. Он опустился на колени, бережно провёл пальцами по бархатистой поверхности гриба. Прикосновение вызвало каскад воспоминаний – ярких, словно они случились вчера.
Вот он, семилетний мальчишка, бежит за отцом, пытаясь не отстать от его широкого шага. Корзинка в руке кажется огромной, но он не жалуется – настоящие мужчины не ноют.
– Гляди в оба, сынок, – говорит отец, указывая на заросли папоротника. – Боровики любят такие места.
Они соревнуются – кто больше найдёт, кто быстрее наполнит корзину. Отец поддаётся, Всеслав знает это, но всё равно гордится своей победой. А вечером мать жарит грибы с луком, и запах стоит такой, что слюнки текут ещё до того, как еда оказывается на столе.
Всеслав осторожно срезал маслёнок, поднёс к лицу. Запах детства, запах беззаботных дней, когда будущее казалось бесконечной дорогой приключений.
Грудь сдавило от внезапной тоски. Он закрыл глаза, сжимая гриб в ладони, чувствуя, как скользкая шляпка податливо мнётся под пальцами.
Когда Всеслав открыл глаза, лес исчез. Вместо хвойного аромата – спёртый воздух избы. Вместо упругого мха под коленями – жёсткая лежанка. Вместо гриба в руке – пустота и неподвижность.
Реальность обрушилась на него всей своей тяжестью. Всеслав моргнул, прогоняя остатки сна, но горечь пробуждения не уходила. Снова бесконечные часы ожидания. Снова боль и беспомощность.
Запах жареных грибов настиг Всеслава, разлившись в воздухе призраком прошлого. Он лежал с закрытыми глазами, но видел так ясно, словно это происходило сейчас: день летнего солнцеворота, когда вся деревня собиралась у большого костра. Их дом гудел от гостей и родичей, а мать хлопотала у печи с самого рассвета.
Всеслав видел, как Милава отводит рукой прядь волос, выбившуюся из-под платка, как наклоняется над сковородой с шипящими маслятами. Пар поднимается от чугунной посудины, а мать ловко переворачивает грибы деревянной лопаткой. Рядом в глиняных мисках уже ждут своего часа квашеная капуста, моченые яблоки и пироги с разными начинками.
– Всеславушка, отнеси-ка отцу медовуху, – говорит она, не оборачиваясь, чувствуя его присутствие спиной.
И он бежит через двор, бережно неся глиняный кувшин, гордый оказанным доверием. Отец с дядьями сидит на лавке, обсуждает будущий урожай, охоту, деревенские новости. Увидев сына, прерывает разговор, принимает кувшин с шутливым поклоном.
– Растёт помощник, – гудит дядька Мирослав, треплет Всеслава по вихрастой макушке. – Скоро совсем мужиком станет.
Вечером, когда солнце клонится к закату, все выходят на поляну. Девушки водят хороводы, парни состязаются в силе, старики рассказывают былины. А потом прыжки через костёр – испытание смелости и очищение огнём. Всеслав помнил, как впервые прыгнул в тринадцать лет – коленки дрожали, но он не показал страха. Отец смотрел с гордостью, мать крестилась украдкой.
Тепло разливалось по телу от этих воспоминаний – тепло семейного очага, радость праздника, чувство принадлежности к чему-то большему. Каждый угол их дома, каждая трещинка на столе, каждая половица пола – всё хранило отголоски тех счастливых дней.
Но тепло внезапно сменилось холодом. Всеслав открыл глаза, и реальность обрушилась на него тяжелее любого камня. Никогда больше он не поднесёт отцу кувшин с медовухой. Не прыгнет через праздничный костёр. Не закружит в танце деревенскую девушку.
Отчаяние проросло внутри, словно ядовитый корень, отравляя каждую мысль. Даже самые простые радости – сесть за общий стол, поднести ложку ко рту, выйти во двор – стали для него недостижимыми, как звёзды в ночном небе.
Всеслав резко вынырнул из омута воспоминаний, словно пловец, достигший поверхности после долгого погружения. Сердце колотилось в груди как пойманная птица, а глаза, широко распахнутые, уставились в потолок избы. Каждая трещина между почерневшими от времени бревнами была ему знакома – сколько раз он рассматривал их, лежа здесь, беспомощный и неподвижный.
Горечь поднялась к горлу жгучей волной. Всего два месяца назад он стоял на Орлином Выступе, готовясь прыгнуть в глубокие воды озера Светлого. Тогда весь мир лежал у его ног, а будущее казалось бескрайним, как летнее небо над Тихомирьем. Он верил, что его ждут великие дела, что старые предания о северном сиянии в ночь его рождения – не пустые байки, а знак особой судьбы.
Теперь же его мир сузился до размеров лежанки. Его подвиги – это борьба за каждый вдох. Его победы – это дни без лихорадки.
Отчаяние навалилось тяжелым жерновом, выдавливая из груди воздух. Всеслав попытался сглотнуть, но горло перехватило спазмом.
– Какой же я был глупец, – прошептал он в пустоту комнаты. – Верил в сказки, как малое дитя.
Все знаки, которые он считал предвестниками великой судьбы – трехкратное появление белого волка, вещий сон о говорящем дереве – теперь казались насмешкой богов. Или, что еще хуже, просто совпадениями, которым он сам придал значение в своей юношеской гордыне.
Всеслав попытался повернуть голову, чтобы взглянуть на солнечный луч, проникающий через маленькое оконце. Даже это простое движение далось с трудом, вызвав новую волну боли вдоль позвоночника.
Боги, если они существовали, были жестоки в своих играх. Они показали ему вершину, до которой он не сможет добраться. Дали мечту, которую отняли прежде, чем он успел сделать первый шаг к ее осуществлению.
Злость вскипела внутри, заставляя кровь пульсировать в висках. Не такой судьбы он ждал. Не так должна была закончиться его история. Но что, если никакой особой судьбы и не было? Что, если все эти годы он тешил себя пустыми иллюзиями, принимая желаемое за действительное?
Этот вопрос жег душу сильнее, чем боль в искалеченном теле. Лучше бы никогда не верить в свою избранность, чем осознать ее обман, лежа беспомощным бревном на смертном одре.
Всеслав лежал, глядя на солнечный луч, медленно ползущий по стене. Сколько времени прошло с тех пор, как он последний раз видел Забаву и Ждана? Неделя? Две? Время утратило свою чёткость, дни слились в один бесконечный поток боли и бессилия.
Образ Забавы возник перед глазами – русая коса до пояса, смешливые карие глаза, ямочки на щеках. Он помнил, как она смеялась на прошлогоднем празднике урожая, когда он, выпив лишнего медового напитка, пытался изобразить танец журавля. Помнил, как румянец заливал её щёки, когда он украдкой брал её за руку в хороводе.
А Ждан? Верный, немногословный Ждан. Всегда рядом, всегда готовый подставить плечо. Они вместе охотились, рыбачили, соревновались в силе и ловкости. И соперничали за внимание Забавы, хотя никогда не говорили об этом вслух.
Сердце Всеслава сжалось от внезапной мысли: что, если они теперь вместе? Что, если Ждан утешает Забаву, пока он лежит здесь, прикованный к постели? Острое жало ревности пронзило грудь острее, чем любая физическая боль.
– Глупец, – прошептал Всеслав в пустоту комнаты. – О чём ты думаешь? Какое право ты имеешь ревновать?
И всё же… всё же он не мог избавиться от этой мысли. Они молоды, полны жизни. А он? Он – полутруп, ожидающий неизбежного конца.
Несмотря на это, тоска по их присутствию становилась невыносимой. Услышать смех Забавы, увидеть спокойную улыбку Ждана – сейчас это казалось важнее любых снадобий и отваров. Но что, если их взгляды будут полны жалости? Что, если он увидит в глазах друзей то же самое мучительное сострадание, которое видел у матери?
Всеслав закрыл глаза, пытаясь справиться с бурей чувств. Зависть к здоровому телу Ждана, страх потерять привязанность Забавы, стыд за свою беспомощность – всё это переплеталось в тугой узел, сдавливающий горло.
И всё же… всё же он хотел их видеть. Нуждался в них больше, чем когда-либо. В их голосах, их рассказах о деревенской жизни, их присутствии, напоминающем, что мир за стенами избы всё ещё существует.
Но сможет ли он вынести этот укол боли, когда увидит в их глазах отражение своей сломанной судьбы?
Всеслав усмехнулся в пустоту комнаты, наблюдая за пылинками, танцующими в солнечном луче. Вот они – свободные, легкие, парящие в воздухе. В отличие от него, великого воина, прикованного к постели собственной немощью.
– Приветствуйте величайшего героя Тихомирья, – прошептал он хриплым голосом. – Непобедимого Всеслава Тиховца, покорителя лежанки, властелина пролежней.
Горькая усмешка исказила его осунувшееся лицо. Как забавно всё обернулось. Он, мечтавший о подвигах, теперь совершал ежедневный подвиг, просто продолжая дышать.
– Мои верные подданные, – продолжил Всеслав, обращаясь к пустым стенам, – сегодня я покорил новую вершину. Смог сам сглотнуть слюну, не подавившись. Воистину, боги благоволят мне.
Смех, вырвавшийся из его груди, больше напоминал карканье вороны. Этот звук испугал его самого – настолько чужим и надломленным он казался.
Всеслав представил, как мать рассказывает соседкам о его "успехах": "А мой Всеславушка сегодня целый час не кашлял!" И те восхищенно качают головами, восхваляя его стойкость.
– Ждан, друг мой, завидуй! – продолжал он свой безумный монолог. – Пока ты вынужден таскать тяжести, охотиться и плавать в озере, я лежу как князь, и все прислуживают мне. Хочу пить – мне подносят воду. Хочу есть – кормят с ложечки. Даже в нужник ходить не надо – всё здесь, под рукой. Вернее, под задом.
Улыбка на его лице превратилась в гримасу боли. Юмор, которым он пытался защититься от отчаяния, оборачивался против него самого, вонзаясь в сердце острее любого ножа.
– А Забава? О, Забава будет в восторге от такого жениха! – голос его дрогнул. – Немощный калека, который не может даже обнять её. Зато какие истории я могу рассказать… о потолке. Я изучил каждую трещину, каждый сучок. Настоящий знаток потолочных дел!
Всеслав почувствовал, как что-то горячее скатилось по щеке. Слеза? Нет, великие герои не плачут. Это, должно быть, пот. Или роса с небес, восхищенных его мужеством.
Смех перешел в рыдание, которое он не мог сдержать. Вся эта игра в шутки, весь этот черный юмор – лишь тонкая маска, скрывающая бездну отчаяния. Один шаг от смеха до крика, от сарказма до безумия.
Солнце уже поднялось высоко, заливая комнату золотистым светом. Всеслав прищурился, наблюдая, как лучи проникали сквозь щели в ставнях, рисуя на стенах причудливые узоры. Эта игра света всегда завораживала его – единственное развлечение в бесконечные часы неподвижности.
Мысли о Забаве и Ждане не покидали его. Что если они придут сегодня? Что если прямо сейчас идут по деревенской улице к его дому? Сердце забилось чаще от этой мысли.
Он представил, как распахнется дверь и Забава влетит в комнату, принося с собой запах трав и свежего хлеба. Её коса будет слегка растрепана от быстрой ходьбы, а глаза – светиться тем особым светом, который появлялся в них только когда она смотрела на него. А следом войдет Ждан – степенный, основательный, с корзиной лесных гостинцев.
Они сядут рядом с его лежанкой. Забава будет рассказывать о деревенских новостях, о том, как вредная коза старосты забрела в огород к тетке Маланье и сожрала всю капусту. А Ждан будет вставлять короткие замечания, иногда усмехаясь.
И на мгновение всё будет как прежде. Они будут смеяться над старыми шутками, вспоминать общие приключения. Может быть, Ждан расскажет о новой охоте, а Забава споёт ту песню, которую они любили слушать на берегу озера в летние вечера.
Но тут же радужные мечты рассыпались осколками, больно впиваясь в сердце. Нет, ничего не будет как прежде. Он больше не сможет поддержать их разговор – его речь стала неразборчивой, каждое слово давалось с трудом. Он не сможет взять Забаву за руку, не сможет хлопнуть Ждана по плечу. Они будут говорить, а он – лишь слушать, не в силах ответить так, чтобы его поняли.
Горькая правда обрушилась на него: он уже стал призраком в мире живых. Тенью того Всеслава, которого они знали. Телом без возможности действовать, голосом без возможности говорить.
Комок подступил к горлу, мешая дышать. Всеслав сжал зубы, борясь с подступающими слезами. Нет, он не позволит себе этой слабости. Достаточно того, что он не может контролировать своё тело – но свой дух он не отдаст отчаянию.
И всё же боль была слишком сильна. Мысль о том, что он стал живым мертвецом для окружающих, пронзила его острее любого ножа.
Вечер подкрадывался к Тихомирью неспешно, окрашивая небо в густые багряные тона. Всеслав ощущал смену времени суток по меняющимся теням на стенах избы и приглушенным звукам, доносившимся с улицы. Деревня оживала иначе, чем днем – более интимно, с особым ритмом вечерних забот.
Он напряженно вслушивался в каждый шорох за дверью, каждый звук шагов на тропинке. Сердце предательски ускоряло бег всякий раз, когда кто-то проходил мимо их двора.
– Сегодня точно придут, – шептал Всеслав в пустоту комнаты. – Забава обещала…
Надежда и отчаяние сменяли друг друга, как волны прибоя. Вот сейчас скрипнет калитка, раздадутся знакомые голоса – и комната наполнится жизнью, а не только его тяжелым дыханием.
С улицы донесся взрыв смеха – молодежь собралась у колодца, как это бывало каждый вечер. Всеслав знал эти голоса. Раньше он сам был там, в центре внимания, рассказывал истории, которые заставляли девушек визжать от страха, а парней – завистливо хмыкать.
Звонкий девичий смех прорезал вечерний воздух – Забава? Всеслав напрягся, пытаясь приподнять голову. Нет, не она. Просто похожий голос.
Боль разочарования оказалась острее, чем он ожидал. Не придут. Ни сегодня, ни завтра. Зачем им проводить вечер с калекой, когда можно веселиться у колодца, петь песни, рассказывать байки?
Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Смех и голоса постепенно стихли, уступая место вечерней тишине. Только сверчки нарушали безмолвие своим монотонным стрекотанием, да изредка доносился лай собак.
Тишина обрушилась на Всеслава тяжелее любого камня. В этой тишине каждая мысль звучала оглушительно громко, каждое воспоминание превращалось в острый нож, вонзающийся в сердце.
Последние лучи заходящего солнца пробивались сквозь щели в ставнях, рисуя на стене золотистые полосы. Всеслав смотрел на этот свет, не отрываясь. Свет с улицы, из другого мира – мира движения, смеха, жизни. Мира, который продолжал существовать без него.
Каждый солнечный луч, каждый отблеск напоминал ему о том, чего он лишился. О беге наперегонки до озера, о танцах на праздниках, о прыжках с Орлиного Выступа. О простой радости шагать по лесной тропе, чувствуя под ногами мягкий мох.
Время застыло. Минуты растянулись в часы, часы – в вечность. Всеслав лежал, неподвижный как камень, и только глаза его были живыми, следя за медленно гаснущими полосами света на стене.
Комната погрузилась в сумерки. Всеслав лежал, вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь потрескиванием догорающих углей в печи. Мать давно ушла спать, оставив его наедине с мыслями, которые кружили подобно воронам над полем битвы.
Никому. Он никому не мог объяснить того, что творилось внутри. Эта печаль была не просто чувством – она стала физической сущностью, заполнившей каждую клетку его тела. Она текла по венам вместо крови, дышала его лёгкими, билась в сердце вместо него самого.
Всеслав прикрыл глаза. Сколько времени прошло с тех пор, как он упал? Два месяца? Целая вечность. Два месяца абсолютного бессилия. Два месяца наблюдения за тем, как рушится всё, к чему он стремился.
Великий воин, о котором будут слагать песни? Защитник деревни, о котором заговорят в дальних землях? Муж Забавы, отец сильных сыновей?
Всё рассыпалось прахом.
Холодный ночной воздух проникал сквозь щели в ставнях, но Всеслав едва ощущал его прикосновение к лицу. Ниже шеи его тело превратилось в чужую, неподвластную ему территорию.
Но что-то внутри – глубоко-глубоко, где не могла достать даже самая чёрная печаль – вдруг шевельнулось. Крошечная искра, почти невидимая в окружающей тьме.