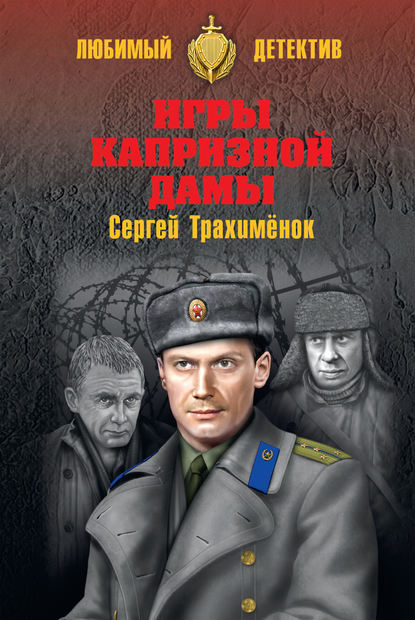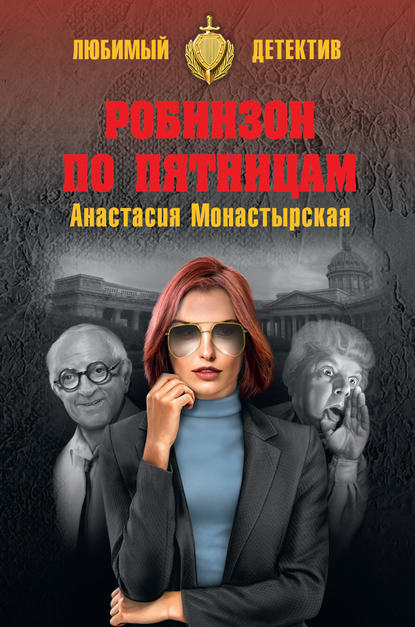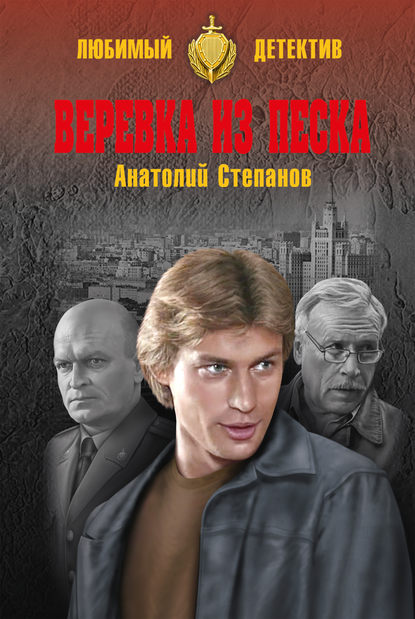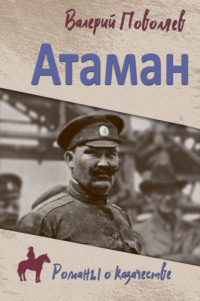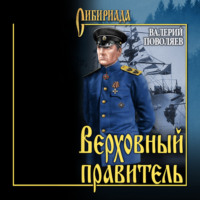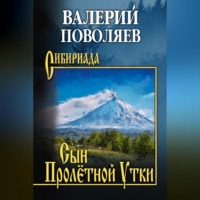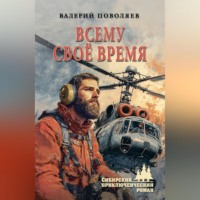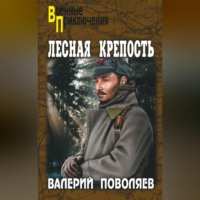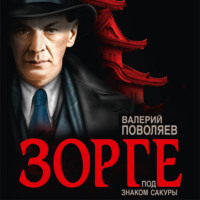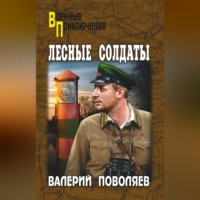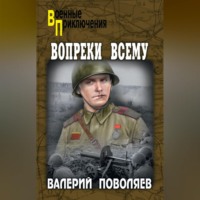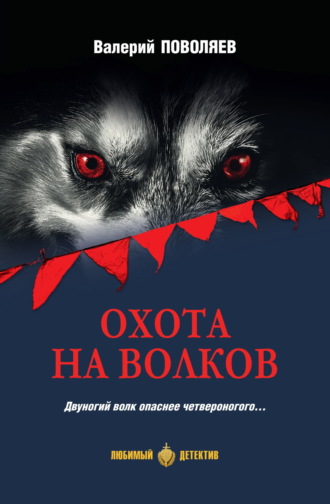
Полная версия
Охота на волков
Ресторан, в который он привез Цюпу, был ей неведом, Галина даже не слышала о нем и не поверила, что среди общего развала, хаоса, остановившихся заводов и засилия крикливых торговок может вообще что-то родиться. А ведь родилось – вон какое забавное, светлое, пахнущее стариной и шашлычным дымом, с толстыми соломенными крышами, нахлобученными на ладно срубленные деревянные хатки, в чьих приветливо распахнутых окнах краснеет герань, а на кольях плетней сушатся горшки… В одной из летних печек дозревал, доходя до кондиции, большой чугунок с украинским борщом, а над огромным противнем коптилась туша барана.
– Как здесь здорово! – Цюпа прижала пальцы к губам.
– Нравится?
– Очень!
– Тогда, Галочка, вперед!
Она прошла немного по дорожке, потом нерешительно замедлила шаг и оглянулась.
– А как же цветы? Они завянут.
– Не беспокойтесь, Галочка, цветы нам принесут. Для этого здесь есть специальный человек.
К Шотоеву тем временем устремился улыбающийся парубок в черкеске с газырями и шапке-кубанке с алым верхом – посланец атамана куреня, иначе говоря – распорядитель веселья.
– Вы, насколько я понимаю, столик себе не заказывали, – еще издали начал он.
– Все правильно понимаете, не заказывал. – Шотоев небрежно, двумя пальцами, извлек из нагрудного кармана пятидесятидолларовую бумажку, протянул ее парубку. Тот мигом, цепко, движение это не засек даже опытный Шотоев, не говоря уже о Галине, перехватил банкноту и склонил голову в кубанке:
– Прошу в третий домик.
– Где это?
– Я провожу вас, – распорядитель веселья проворно метнулся по устланной мелкой рисунчатой плиткой тропке вперед, по дороге ловко сдернул с плетня вышитый красными петухами рушник, перебросил себе через руку, – это самый лучший кабинет у нас – третий домик, самый привилегированный. Сюда, сюда, пожалуйста!
Парубок не шел, а летел, танцевал на ходу, был он проворен и ладен, около одного из домиков с распахнутыми дверями остановился, сделал жест, будто регулировщик движения.
– Пра-ашу!
Цюпа вошла в домик первой, огляделась:
– А что… Здесь очень даже недурственно.
– Большего нам и не надо. – Шотоев усадил Цюпу, сел сам, достал из кармана ключи от «Жигулей». – Вот что, сударь, – произнес он начальственным голосом, – в машине у меня лежит букет роз – определи его в посудину посимпатичнее и принеси сюда.
– Сей момент! – готовно, будто половой из чеховского рассказа, отозвался парубок, перехватил ключи. Добавил два слова из лексикона уже нынешнего: – Нет проблем!
– Это еще не все, – остановил его Шотоев, – пришли-ка нам официанта… Побыстрее, если можно.
В ответ вновь прозвучало традиционное, времен дядюшки Гиляя:
– Сей момент!
Официант примчался действительно «сей момент» – в ту же секунду – проворный, как танцор, в мягких козловых сапожках, в красной шелковой рубахе, перетянутой плотным, с золотыми кистями, шнуром, белобрысый, курносый, редкозубый, смешливый, бесцеремонный.
– Заказ оплачивать чем будем? – деловито осведомился он.
– В каком смысле? Наличными или по перечислению, что ли?
– Нет. Деревом или зеленью?
– А что, разве это имеет какое-то значение?
– Еще какое! На зелень мы даем все, что у нас есть. А на дерево – лишь половину.
– Тогда зеленью, естественно.
Шустрый малый улыбнулся лукаво, выхватил из-за рукава рубахи блокнот с серебряным, цепочкой прикрепленным карандашиком.
– Я внимательно слушаю вас.
– Не надо слушать, голубчик. – Шотоев взял в руку тяжелый кожаный том с разрисованным краской цветным меню, приподнял его. – Все, что тут есть – неси!
– Однако места мало будет, – озабоченно оглядев домик, проговорил официант, – дополнительный стол ставить надо.
– Это твоя забота. Ставь!
Цюпа молчала, небрежно покусывая зубами лепесток розы, и улыбалась – все происходящее было интересно ей. Она еще не встречалась с таким откровенным купеческим размахом. Главное, чтобы загул этот не перешел границы, не обрел, скажем так, назойливые черты… За этим надо обязательно проследить, она – начеку.
Проворный малый, кряхтя довольно, приволок еще один стол, а затем с помощником, примчавшимся с кухни, начал носить еду, блюдо за блюдом, поднос за подносом. Это был странный набор кушаний, порою совсем не сочетавшихся друг с другом: например, мясо и кислое молоко, осетрина и крохотные, размером с наперсток, пухлые пирожки, начиненные клубничным джемом, которые здесь, как сладкое, подавали к травяному чаю…
Посреди стола, как некий сверкающий утес, высился огромный букет роз.
– Неужели мы все это съедим? – ужаснулась Галина, когда официант принес последнее блюдо – хрустящие поросячьи хвостики.
– Если не съедим, то основательно понадкусываем. – Шотоев не сумел сдержать себя, засмеялся гордо. – Попробовать надо все.
– Не осилим, – убежденно произнесла Цюпа. – Для этого надо иметь слоновий желудок.
– Галочка, не тревожьтесь! Еду мы оставим врагам. Помните популярное русское правило: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу?
– Что-то такое я слышала. В студенческую пору.
– Будем исполнять заветы предков. – Шотоев подхватил Галину тарелку, горкой наложил в нее сырокопченой колбасы, нарезанной тонкими, кровяно просвечивающими дольками, бастурмы, мелких голубцов, отдельно пристроил двух копченых рыбешек с аппетитными золотистыми боками, кусок осетрины, пару ломтей розовой балтийской семги слабого посола, несколько пластинок сыра – сулугуни, пресного адыгейского, поставил перед дамой:
– Закуска к шампанскому!
– Копченое мясо и шампанское? Сочетается ли? – засомневалась Цюпа.
– Если копченое мясо высшего качества, то сочетается, – засмеявшись, объявил Шотоев, – а все, что есть на этом столе – высшего качества.
Это был странный вечер. Вечер еды, дождя, который не замедлил просыпаться на землю, едва они подняли бокалы с шампанским, – дождь был нудный, темный, обкладной, в хате сделалось сумеречно, неуютно, на сумрак примчался шустрый малый в шелковой рубахе, запалил канделябр со свечами, поставил его на стол, спросил у Цюпы:
– Нравится?
– Очень. Я люблю живой огонь.
Странный вечер оказался приятным. Вместе с тем это был вечер молчания – Шотоев говорил мало и это было для Галины совершенно неожиданно, наконец она не выдержала, прикоснулась пальцами к руке Шотоева:
– Что-нибудь случилось?
– Нет-нет… Все в порядке.
– Может, нужна помощь?
Он улыбнулся чему-то своему, далекому, непонятному своей печалью, у него дрогнули губы и помягчели глаза:
– Галочка, вы действительно хотите мне помочь? Это искренне?
– Конечно искренне.
– Давайте договоримся так: когда мне понадобится помощь, я обязательно обращусь к вам. А сейчас – выпьем. Простите меня – виноват дождь, он всегда навевает грустные воспоминания и вообще… вообще вгоняет в тоску.
– Ну-у… Вы и тоска? Это совершенно несовместимо.
– И тем не менее… Что бывает – то бывает. – Шотоев чокнулся с Цюпой, поднес шампанское к канделябру – искрится на свету или нет? Шампанское играло дорого, веселилось, это было хорошее шампанское, «Абрау-Дюрсо». Усмехнулся ни с того ни с сего, произнося фразу, вырванную из текста: – Мужчины – тоже люди.
– Догадываюсь. А радостные дни у вас бывают?
– Непременно. Например, новруз. Это у мусульман – Новый год, двадцать первое марта, весеннее равноденствие. На столе обязательно должны стоять семь блюд на «с».
– Почему именно на «с»?
– Правило такое. Если стоит семь блюд на «с» – значит, год удастся, будет счастливым…
– А-а, «с» – это счастье, – догадалась Цюпа.
– Это не мы придумали – предки.
– Сахар, селедка, свинина…
– Свинину мусульмане не едят.
Цюпа засмеялась:
– Тогда сало.
Шотоев тоже засмеялся:
– Синильная кислота. Серная и соляная. Соль, севрюга, сабза, салака, сом, семга, сиг, ставрида, свекла, салями, соус соевый, сосиски, сельдерей, семечки, сметана, салат, суп, – пулеметом, на одном дыхании зачастил Шотоев, Галина даже растерялась от такого напора: слишком много знает товарищ, а потом поняла, в чем дело – Шотоев перечислял все, что видел на столе, – добавила:
– Голова барана, присыпанная сахарной пудрой…
– В итоге у нас получился не один стол с набором еды для новруза, а целых четыре… А! За это и выпьем! – Шотоев чокнулся с Цюпой. – За полноту жизни!
Иногда Галина ловила себя на том, что следит за Шотоевым, словно бы боится: а вдруг ее новый знакомый превратится в обычного развязного сладкоглазого кавказца, уверенного в том, что ему принадлежит как минимум половина мира, но Шотоев не переступал рамок дозволенного, не тянул к ней физиономию для поцелуя, не отпускал сальных шуточек – он, по-собачьи цепкий, все чующий за полверсты, очень точно оценивал происходящее, просчитывал его и ошибок не допускал. Он вообще знал по своему опыту: сдержанность первой встречи потом с лихвой окупится…
Так было уже не раз.
Глава пятая
Две вещи вызывали у Бобылева головную боль: транспорт и оружие. Надо было обзаводиться не переделанными на коленке пугачами, а серьезным оружием – укороченными десантными автоматами, очень удобными во всяком налете, гранатами, может быть, даже и «мухами» – удобными небольшими гранатометами. К сожалению, только одноразового пользования… Но выглядели «мухи» очень внушительно.
Легче всего достать оружие было в Москве – туда стекается все, всякие стволы, со всей России, из всего СНГ, да и не только СНГ – из Польши, Югославии, Литвы, Китая, но ехать в Москву – далеко и накладно, и не это главное – по всем дорогам ныне работают отряды разных омоновцев, рубоповцев, спецназовцев, обеэровцев и так далее, развелось этих тараканов столько, что голова может кругом пойти: каждый городишко, каждая область стремились создать у себя собственную армию, пусть даже милицейскую… Ныне куда ни плюнь, оязательно попадешь в человека с погонами, вот ведь как.
Все дороги в Москву и из Москвы прочесываются частой гребенкой, каждую машину чуть ли не рентгеном просвечивают – провезти стволы из Москвы в Краснодар будет очень трудно. Поэтому столица нашей Родины отпадает.
Оружие надо было искать здесь, на месте, у военных, заведовавших складами – на полках и в подвалах у них лежит разномастных стволов и прочего барахла мерено-немерено – глаза разбегутся запросто.
Бобылев уединился для разговора с Пыхтиным. Начал издали:
– Слышь, Леха, ты же афганец…
– Ну и что?
– Как что? У тебя среди военных – особый авторитет. Все-таки ты кровь проливал…
– Не свою – чужую, – не удержавшись, ухмыльнулся Пыхтин.
– Это неважно. В боях участвовал, орден имеешь, медали. Ты ведь на любом утреннике и любом вечере в воинской части – самый желанный гость…
– Не пойму, к чему ты клонишь?
– Не спеши и не суетись под клиентом, Леха. Скажи, есть ли у тебя среди местных вояк… ну, скажем так, настоящие знакомые?
– Настоящие? – Пыхтин на несколько секунд задумался, наморщил лоб, затем смежил глаза и отрицательно покачал головой:
– Шапошные, такие есть… Как-то я с одним капитаном хлопнул по паре кружек, а его спутника-прапора угостил хорошей воблой, так прапор этот едва ли не до земли мне кланялся, как китайский болванчик, все благодарил, засол хвалил, талдычил, что он – мой должник… А так… Нет, пусто все.
– Найти бы этого китайского болванчика.
– Каким образом?
– Пока не знаю. Вот ты над этим, Леха, и поработай.
– Конкретно этого болванчика можно и не найти. Но, кроме него, есть и другие болванчики, правда? Не китайские. Армия-то большая. «Не всякая птица перелетит Днепр при тихой погоде». Так, кажется, Николай Васильевич Гоголь писал? А армия, она шире Днепра.
– Займись, займись армией, Леха. – Лицо у Бобылева немного разгладилось, подобрело, на нем, медленно проступив изнутри, появилась серая усталая тень, натекла, будто некая жидкость, в подглазья, сгустилась там. Пыхтин заинтересованно смотрел на «бугра» – давно не видел его таким, Бобылев перехватил его взгляд и пробурчал недовольно: – Ты чего?
– Отдохнуть тебе надо.
– Ага. Отправиться в отпуск. На какие-нибудь Канарские или какие еще там есть острова. Да? Только этого мне для полноты чувств и недостает. – Лицо у Бобылева снова собралось в кулак, сделалось жестким, глаза блеснули железом, и сам он собрался в кулак.
– Ладно, – откинулся от него Пыхтин, – задание понял. Буду выполнять. Напшут, как говорят в Варшаве.
Причем тут Варшава, Бобылев не понял, но не это было главным.
Способов поближе сойтись с военными было много: можно с полным набором афганских наград прийти в часть и выступить перед молодыми солдатами, а потом за традиционным ужином сойтись в офицерской столовой с отцами-командирами и решить все вопросы, можно подкараулить двух-трех прапорщиков – этих складских генералов, когда они с работы уходят домой, снять их прямо у ворот, по дороге завязать нужный разговор… Можно поискать и среди знакомых, наверняка у пыхтинских друзей есть знакомые военные, есть еще пять-шесть других способов… Пыхтин же решил пойти по пути самому короткому и самому верному.
Он надел старую форму, привезенную из Афганистана – выцветшие штаны с большими накладными карманами, такую же куртку, под нее – десантную тельняшку, а десантные тельняшки, как известно, отличаются от морских, у морских тельняшек полосы темно-синие, у десантных – голубые, – подпоясался офицерским ремнем. На грудь привинтил орден, на другую сторону куртки повесил колодки медалей, из богатого запаса вяленой рыбы, которую всегда держал в доме, выбрал пару лещей пожирнее, завернул их в газету и пошел в пивную.
Присмотрел он одну воинскую часть, судя по погонам да по эмблемам, украшавшим петлицы, – саперную; у части этой конечно же и автоматы есть, и гранаты, и взрывчатка, и вообще полно оружия, свободно валявшегося на складских полках, – потому, что саперные части никогда не набирают полностью свой состав, у них все время недобор… Ведь призывного люда становится все меньше и меньше, поэтому часть оружия и оборудования в этих воинских соединениях всегда бывает законсервирована и вообще стволы там, как полагал Пыхтин, никакого счета не имеют…
«В армии – бардак, – размышлял про себя Пыхтин, – бьют ее, колотят, сердечную, как хотят, пинают все, кому не лень. Людей в погонах шельмуют, оскорбляют, иногда втихаря, зажав где-нибудь в темном углу, избивают. Деньги платят мизерные. Офицер получает раз в пятнадцать меньше, чем лавочник на рынке… Плохо армии, плохо в армии. Не может быть, чтобы я не добыл в обнищавших вооруженных силах пять-шесть “калашниковых” за наличные тугрики».
Недалеко от той воинской части, примерно в трех сотнях метров от ворот, в жиденьком грустном парке имелась неплохая пивная, которой командовала бровастая носатая бабка с полковничьим голосом и фельдфебельскими замашками. Отличительной чертой подведомственного бабке заведения было то, что старуха никогда не разбавляла пиво: какой поступала к ней бочка с завода, такой она ее и продавала, не вливая в бочку ни капли воды, поэтому пиво у бровастой бабки было самым вкусным в Краснодаре, пузатые саперные прапорщики – большие любители потешить собственное брюхо, знали это и бывали в пивнушке частыми гостями. Употребляли они желанный напиток не только в чистом виде, а и, помня старую русскую традицию, добавляли в него водку… Хорошо им было!
Только крепкие «ерши» их и брали, всем другим напиткам не дано было одолеть этих людей с чугунными плечами и железными желудками.
В эту пивную Пыхтин и направился – не может быть, чтобы в славный осенний вечерок, на удивление тихий и прозрачный, – славный подарок после мелких нудных дождей, – пахнущий дымком, яблоками, горечью подгнившей травы, увяданием и некой едва уловимой печалью, бравые вояки-прапоры не пришли в пивную промочить себе горло. Обязательно придут!
Пыхтин медленно шел по улице – рослый, с чистой, почти мальчишеской улыбкой на открытом лице, ладный – редкая дама не обратит на такого парня внимание, не заметит, наверное, только самая затюканная, затрюханная, обремененная детьми, кастрюлями и алкоголиком-мужем, совершенно слепая женщина, а так почти не было красоток, которые не вздохнули бы по Пыхтину, пока он двигался к намеченной цели. И орден на его широкой груди конечно же привлекал внимание, посверкивающий рубином, приметный… Пыхтин шел и любовался вечером.
Любовался самим собою, золотыми, не растерявшими под секущими ветрами свой убор деревьями – кленами, ясенями и толстоствольными, крепкими, как дубки, березами, отличавшимися от тонких и грустных берез средней России, любовался девчонками, цокающими каблучками по тротуару, думал о том, что в Краснодаре «и жить хорошо и жизнь хороша»… Жить действительно было хорошо, Пыхтину никогда не снились люди, которых он убивал – душа не принимала их тени, мозг не запоминал их лица, поэтому чувствовал он себя легко – ничто не обременяло бывшего афганца.
Ни несчастные, расстрелянные ради «афоней» – мятых афганских денег пуштуны в маленьком кишлаке недалеко от Кандагара, ни два пастуха, которых он убил ради нескольких овец – не хотел оставлять свидетелей, ни сержант, наоравший на него в горах, а потом не без помощи Лехи Пыхтина сорвавшийся с крутого гиндукушского гребня в курящуюся страшным дымком глубины пропасть, не недавно убитые греки, лично ему ничего плохого не сделавшие – они лишь имели несчастье оказаться богатыми… А это вряд ли кому нынче понравится – богатые люди…
Никто никогда не представал перед ним в ночной тиши – ни в яви, ни в сонной одури, днем тоже никто не являлся, поэтому Пыхтин чувствовал себя отлично.
– «И жить хорошо и жизнь хороша, – пропел он негромко, поддел носком ботинка голыш и со снайперской точностью вогнал его в пространство между двумя вкопанными в землю столбиками ограды, довольно отметил: – Один – ноль».
Парк, в котором находился пивной павильон, парком назвать было нельзя – облезлый, редкий, с выкорчеванными деревьями, он был стар, как стар сам город Краснодар: лет сто пятьдесят назад какой-то доброхот-помещик, любящий землю, не терпящий пустых мест на ней, мусора и выжженных плешин, посадил эти деревья рядом со своим домом, растил и холил их, потом умер, следом за хозяином умер и дом – превратился в хлам, вскоре исчезли даже следы его… А вот деревья остались, живут до сих пор.
Этот парк немного бы почистить, обновить, подсадить свежие деревья – и он еще лет сто пятьдесят будет радовать людей…
Сейчас же от него веяло грустью, горечью увядания, еще чем-то, чему Пыхтин и названия не знал.
Дорожки бывшей помещичьей усадьбы были посыпаны рыжим песком – чья-то добрая душа хоть за этим-то следила, – песок вкусно хрустел под ногами, старые некрашеные скамейки были пусты – час влюбленных еще не наступил, на одной из них сидел, бессмысленно уставившись тусклыми глазами в пространство, нечесаный и небритый бомж, вяло шевелил ртом. Увидев Пыхтина, призывно протянул к нему руку, но ничего не сказал.
«У бомжа – глюки, – понял Пыхтин, – мираж перед глазами. Он думает, что ему сейчас принесут шампанского, а шампанского ему не принесут».
Чем ближе подходил он к пивному шалману, тем больше попадалось на глаза народа – встретились двое рабочих, удравших со смены прямо в спецовках, покинули цех, чтобы погасить «пламень, сжигающий колосники», руки у них тряслись, из нагрудных карманов спецовок торчали складные металлические метры, за рабочими – двое студентов, следом – двое задастых, в добротных кожаных куртках мужичков, – все по двое, словно бы народ приспособился пить пиво только парами; и верное ведь – кроме пищи телесной русскому человеку всегда была нужна пища духовная, хороший разговор у стоячего одноногого столика.
– Привет, тетя Валя! – крикнул Пыхтин бровастой бабке и призывно поднял руку.
– Привет, родимый! – привычно отозвалась та.
– Как у нас с пивком? Хорошо? – спросил он, подходя к окошку.
– С пивком хорошо, без пивка плохо, – хмыкнула бабка, устрашающе пошевелила бровями, они у нее были огромные, с проседью, будто бы выпачканные серой солью, как усы у Сталина, когда они двигались у нее на лице, ездили вверх-вниз, либо влево-вправо, то производили впечатление какое-то разбойное. Но натура у бабки Вали была добрая, услужливая, не терпящая воровства и обмана. Пыхтина она считала своим – Пыхтин бывал здесь несколько раз и запомнился тем, что всегда приносил с собою хорошую рыбу. – Есть раки, – высунувшись из окошка, басовитым шепотом сообщила она. – Правда, мелкие и недешевые, но зато свежие. Еще утром в лимане плавали. И сварены вкусно. Могу устроить десятка два.
– А я, тетя Валя, как обычно, со своим товаром. – Пыхтин выдернул из свертка крупного, истекающего жиром, толстого от икры леща, показал старухе. – Лучше всяких раков будет.
– Ну, не лучше, но тоже ничего. – Брови на старухином лице оживленно задвигались. – Сколько тебе кружек налить? Начнешь, как и все, с двух?
– Нет, тетя Валя, начну я с одной.
– Чего так хило? Начинать так начинать! Иначе развязывать неинтересно.
– Хочу, чтобы разбег подлиньше был.
– А-а, – понимающе протянула бабка. – Ну-ну. Каждый чешет репу как умеет. Одну так одну.
– Пиво какое сегодня? «Московское», «Жигулевское», «Ячменный колос»?
– Лях его знает. Пиво и пиво. Главное, что хорошее.
Взяв в руку кружку, Пыхтин отошел в сторону, к столику, расположенному под деревом, на котором желтело несколько крупных, безжалостно содранных ветром с веток листьев. Поставил кружку на край, сгреб листья в пучок, вылил на них немногот пива. Протер стол.
– Эй, моряк! – прокричала ему бабка. – Плыви сюда, я тебе тряпку выдам.
– Я не моряк, – сказал ей Пыхтин, я – пехота, самая настоящая соляра, как нас звали в Афгане.
– Но орден-то у тебя – моряцкий.
– Почти.
– У меня таких два, – неожиданно сообщила старуха, – с войны. Я на фронте санитаркой была. На севере.
– Во флоте, – догадался Пыхтин.
– На флоте, – поправила его старуха и, хмыкнув, добавила безжалостным насмешливым тоном: – Теперь понятно без всяких очков, что ты не моряк.
– Каждому свое, тетя Валя. Ладно, давай свою тряпку.
– Держи струмент. – Старуха шлепнула на небольшой, пропитанный пивом деревянный прилавок влажную тряпку. – Не забудь вернуть.
– Как можно, тетя Валь. – Пыхтин сделал вид, что обиделся.
– Не дуйся на меня, пехтура, – мирным тоном произнесла бабка. – Орден-то где получил? В Афганистане или уже успел в Чечне побывать, там отличился?
– До Чечни не доехал, да и нужна она мне, как щуке зонтик. В Афганистане, естественно. Два года там оттрубил, от звонка до звонка. Выходил вместе с генералом Громовым…
– Ну, ясно, все, кто воевал в Афганистане – все с ним…
Разложив на столике газету, Пыхтин достал леща, помял его, чтобы получше слезала шкурка, оторвал голову, затем два пера-плавника, украшавших мясистый треугольничек внизу, тщательно обсосал их, наметил кучку отбросов – он все делал размеренно, основательно, четко, словно бы совершал заранее расписанный ритуал, который был для него священным. А он и впрямь был для него священным, ибо такое времяпрепровождение – с пивом, с рыбой, с подстеленной под кружку газеткой Пыхтин считал дорогим для себя, очень дорогим.
Это ему иногда снилось в Афганистане, и так ему там хотелось пива, что Пыхтин раза два, прячась от ребят, даже плакал.
И, прибыв с чужбины в Краснодар, он, прежде чем появиться дома и сесть за стол, плотно заставленный выпивкой и закуской, сделал остановку у пивного ларька, чтобы отвести душу… И отвел.
Минут через пятнадцать появились двое военных, оба офицеры, молодые, усы еще как следует не успели прорасти – лейтенант и старший лейтенант. Явно инженеры. Господа инженеры Пыхтину не были нужны, поэтому он даже не повернул головы в их сторону, неспешно лущил леща, сладко щурясь, обсасывал косточки, прикладывался к кружке – глотки делал мелкие, пил пиво, как хорошее вино, смакуя напиток, стараясь почувствовать его вкус. А уж как надо получать от этого удовольствие, он знал.
Офицеры же на Пыхтина внимание обратили, – все-таки человек был с боевым орденом, – постояли тихонько за своим столом, выпили по пиву и ушли.
А Пыхтин продолжал священнодействовать. Рыба, которую он сейчас разделывал, в краснодарских магазинах не водилась, да и на рынке, где можно было купить все, тоже не водилась, – была засолена очень умело, с добавлением сахара и укропа, по личному рецепту Пыхтина, и завялена по особому рецепту, в глухом темном помещении, где нет ни мух, ни тараканов, у теплых батарей с вентиляторным обдувом.
Через некоторое время на пивной площадке появился хмурый, с отдутловатым лицом майор, не глядя ни на кого, залпом опрокинул в себя пару кружек пива и спорой стелющейся походкой помчался по своим делам дальше. Майор тоже не был нужен Пыхтину, хотя майор – это ближе, теплее для Пыхтина, майор мог командовать каким-нибудь складом, а прапорщик – быть его подчиненным. Но по опыту своему Пыхтин знал, что с десятком прапорщиков договориться бывает легче, чем с одним майором.