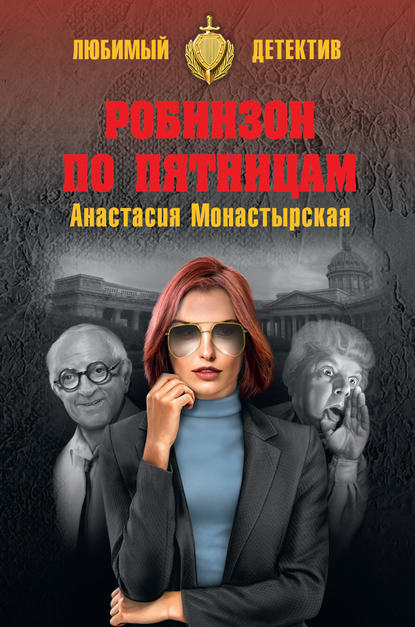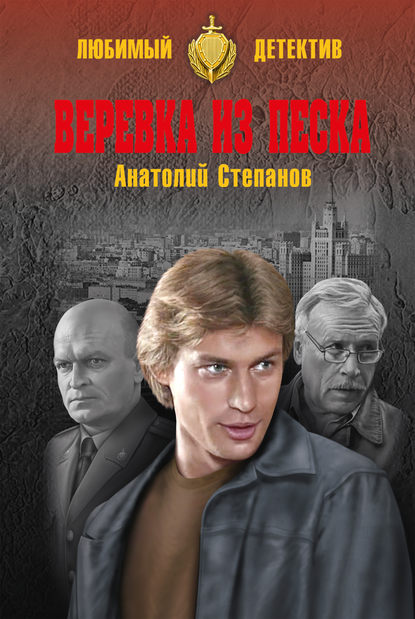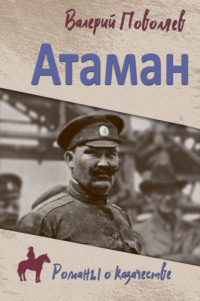Полная версия
Охота на волков
– В семь часов вечера, – напомнил ей Шотоев, – на этом же месте. – Он стукнул носком ботинка по какому-то влажном у голышу, попавшему ему под ногу.
Через секунду Цюпа скрылась в подъезде. И словно бы солнышко какое пропало, либо влага переполнила небесные резервуары – пошел дождь: мелкий, по-мышиному тихий, частый. Такой дождь много хуже свирепого ливня, в нем человек словно бы размокает – то одно начинает в нем болеть, то другое. то третье, все расклеивается, распадается, рушится – разрываются сцепы, жизнь становится немилой.
Шотоев не дал дождю погасить в нем радужное настроение, он лишь засмеялся, достал из кармана новенькую стодолларовую бумажку, сложил ее пополам и на ходу, управляя машиной одной рукой, начал чистить себе зубы. Вот такую барскую привычку обнаружил он в себе, невесть от какого предка перекочевавшую – чистить хрустящими долларовыми банкнотами зубы.
Почистив, довольно хмыкнул:
– Порядок в кавалерийских частях! – И сунул сто долларов назад в карман. – Жизнь прекрасна и удивительна! – В следующее мгновение поймал себя на том, что настроение у него веселое, как у ребенка, который не ведает, что такое взрослые заботы, а мужчина не должен вести себя так, иначе он сам обратится в ребенка, – впрочем, Шотоев знал, что радость скоро улетучится, он сделается сдержанным, мрачноватым и одновременно решительным, каким, собственно, и должен быть настоящий мужчина, джигит, и это произойдет очень скоро.
Он погасил улыбку на лице, нахмурился, становясь важным, значительным, перехватил поудобнее руль.
Чем хорош Краснодар? В нем нет таких ошеломляюще высоких домов, как, скажем, в Москве на Новом Арбате или в Питере, в районе новостроек; Краснодар – город низких крыш, густых деревьев, дающих хорошую тень, винограда, который прижился на асфальте и растет во дворах, это город сельской архитектуры, одноэтажных частных домов.
Тут есть целые улицы, где вообще не встретишь двухэтажных домов, только одноэтажные, обвитые плющом, хмелем и диким виноградом добротные каменные постройки, способные летом держать прохладу, а зимой тепло, хорошо прикрытые тенистыми деревьями, те же, кто поднимается выше, живут как в аду – беспощадное солнце прожигает такие здания насквозь, максимальная высота, на которую можно поднимать жилье – это пятый «хрущевский» этаж. Выше уже нельзя, там царство неба и, извините, высоких температур.
На одну из таких одноэтажных улиц и направлялся сейчас Шотоев.
Он остановился перед серым, сложенным из старого камня домом, к которому был прибит жестяный номер с нарисованной от руки цифрой 17, поставил «девятку» носом вплотную к железным воротам, запер машину и четыре раза нажал на лаковую, блестящую, будто птичий глаз кнопку звонка – три коротких трели и одна длинная.
Секунд через десять звонки повторил. Распахнулась металлическая, с хорошо смазанными петлями дверь, в проеме показался хмурый, с выжидательно прищуренным вглядом Бобылев. Раскрыл дверь пошире, стрельнул глазами в один конец улицы, в другой…
– Проходи.
– Не бойся, хвоста с собою не привел. Рано еще беспокоиться о хвостах.
– Береженого бог бережет, – натянутым голосом проговорил Бобылев. Добавил, чуть сдвинув в сторону одну половину рта: – Если, конечно, у нас этот бог есть.
– Есть, есть, – благодушно отозвался Шотоев, проходя во двор. Бобылев тщательно запер металлическую дверь, задвинул засов, а потом в проржавевший хомутик, согнутый из толстого гвоздя, втиснул крючок.
Проговорил, не меняя хмурого, какого-то простуженного тона:
– Мы ждем тебя.
– Все собрались?
– Все.
Этот дом Шотоев специально снял для боевиков «технического директора», внес плату за полгода вперед. Хозяин потребовал плату в долларах, и Шотоев отдал ему доллары. К дому невозможно было подойти невидимым – ни с лицевой, ни с тыльной, огородной части, любого противника можно было засечь и достойно встретить.
– Ну что… с почином? – Шотоев протянул руку Бобылеву. Тот в ответ протянул свою руку, жесткую, неувертливую, малоподвижную, Шотоев попробовал сжать ее, но не тут-то было: это все равно, что сжать железо, сколько ни стискивай его, все бестолку. Шотоев восхищенно качнул головой: – Однако! В доме, в комнате, примыкавшей к кухне, был накрыт стол: несколько бутылок холодного, с матовыми от пота боками шампанского краснодарского производства, красного, сладкого, три бутылки «столичной», пиво и еда, много еды – копченые куриные ножки, любимое блюдо Семена Лапика и, как оказалось, Пыхтина, вяленое на дыму мясо с аппетитными розовыми прожилками, ветчина, приготовленная на пару и сырая, кровянисто-светящаяся, вышибающая слюну, колбаса четырех сортов, икра паюсная, давленая, нарезанная брикетиками и рассыпающаяся, как каша, горкой наваленная в два блюда, крупно порезанная осетрина домашнего приготовления и осетрина магазинная, горячего копчения – стояло, в общем, все, что можно было ныне купить в кубанской столице на доллары. Шотоев восхищенно качнул головой и почмокал очень аппетитно:
– Королевский стол!
– Чего только не сделаешь во имя вечной дружбы России с Грецией! – Лапик приподнял одно плечо и ладонью стряхнул с него пыль, Шотоев глянул на фельдшера вопросительно: к чему этот пустой жест? – А в Греции есть все!
«Кто это?» – Шотоев стрельнул глазами в сторону Лапика.
– Наш оружейник, – неприметно, едва шевельнув губами, ответил Бобылев.
– Болтлив очень.
– Зато руки золотые.
– Ладно, не будем распространяться на эту тему. – Лицо Шотоева отвердело на мгновение, потом обмякло. – Но я бы хотел проверить его особо.
– Сделаем, – пообещал Бобылев.
Шотоев подошел к столу, взял в руки стопку, наполнил ее водкой и сделал приглашающий жест:
– А чего мы, господа, собственно, стоим? – Тут Шотоев неожиданно засмеялся, покрутил головой, словно был в чем-то виноват: – Никак не могу привыкнуть к этому странному старинному слову «господа»…
– В России все всегда было сикось-накось, – Лапик не выдержал, хихикнул, – все не как у людей: у человека нет пиджака, кошелек пустой совершенно, в нем не наскребешь денег даже на газированную воду, на заду штанов большая дырка, а он требует, чтобы его величали господином… Цирк!
Шотоев сжал рот – ему не нравился этот пыльный фикус, совсем не ведающий, не понимающий, когда можно подавать голос, а когда нельзя, выждал несколько минут и в полной тишине продолжил:
– Выпьем за начало нашей общей работы. Надеюсь, что она будет успешной, а мы – богатыми.
– Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, – снова встрял в тост Лапик.
Шотоев повернулся к Бобылеву.
– Это его сегодня чего-то несет, – пояснил тот, – от волнения, наверное… А вообще-то он нормальный мужик.
– Займись им, как мы и договорились, – велел Шотоев, – иначе займутся нами. Есть хороший рецепт – засунуть голову под мышку и определить на новое местожительство в какой-нибудь тихий водоем. Не находишь?
– До этого не дойдет, – уверенно пообещал Бобылев. – Даю слово.
За столом поднялся галдеж, какой обычно появляется после первой стопки, еда на тарелках начала быстро таять, и Шотоев снова наполнил свою стопку водкой.
– Предлагаю еще один тост. Обязательный, как при советской власти, в партийные времена, а уж потом делайте что хотите, – Шотоев провел рукой по пространству, – добивайте этот стол, накрывайте новый и пейте, пейте – сколько хотите, столько сегодня и пейте. Завтра этого уже не будет. Завтра… – Он неожиданно замолчал, повернулся к Бобылеву, словно передавал эстафетную палочку для продолжения разговора.
Тот эстафетную палочку принял.
– Завтра будет дисциплина, – сказал Бобылев, – вот такая дисциплина, – он сжал костистый кулак и показал его всем, – ни капли спиртного, даже пива. Только по команде… Понятно?
– Ну вот, вступительная часть, как и положено на всяком партийном собрании, сделана. – Шотоев засмеялся, сказано коротко и доходчиво. Мне остается только добавить, что наше производственное товарищество, которое называется «Горная сосна», уже зарегистрировано в юридических органах, поэтому позвольте представить вам технического директора товарищества, – он взял за кисть руку Бобылева и поднял ее вверх, – это ваш главный начальник.
– А гендир кто? – тонко, сорвавшись на фальцет, вскричал Лапик. – Генеральный директор кто?
– Генеральный – я. – Шотоев глянул на Лапика так, что у того по длинной, с синеватыми жилами шее поползли мурашики. – Если что-то не устраивает вас в наших двух кандидатурах, прошу сказать об этом сейчас же, пока не поздно.
– Что вы, что вы, все устраивает. – Лапик поднял над собой обе руки, показал ладони Шотоеву, – это был знак смирения, который тот понял, – пробормотал смятенно: – Извините меня за излишнюю болтливость.
– Есть хорошая присказка, – назидательно проговорил Шотоев, – умное точное слово – серебро, а молчание – золото.
– Все понял, больше не буду.
– Я с ним разберусь, – тихо, почти не разжимая рта, произнес Бобылев на ухо шефу, – пустой болтовни больше не будет.
– Может, с ним действительно… – Шотоев выразительно щелкнул пальцами, – и концы в воду?
– Можно и так, но другого оружейника у нас пока нет.
– Мда, сложный товар, редкий, в ларьке его не купишь. Жаль, в техникумах оружейников не производят. А то бы подали заявку от нашей конторы и получили молодого специалиста. По закону молодые специалисты должны три года пахать бесплатно. Сам пахал.
– После института?
– Ага. Я ведь сельскохозяйственный закончил. Могу землю пахать, могу баранам хвосты набок скручивать. – Шотоев потянулся к Бобылеву со стопкой, чокнулся. – Знаешь, я рад, что в тебе не ошибся. Насчет кровников забудь навсегда. Они больше допекать не будут. Сколько долларов взяли у этого грека?
– Если в доллары перевести и наши деревянные, то – сорок три тысячи.
– Хорошо. Богатенький был Буратино. Каждому участнику операции выдай по пятьсот долларов, себе возьми три тысячи. Остальные – в кассу товарищества.
– Добро. – Бобылев согласно наклонил голову.
– Деньги выдай через две недели, сейчас только объяви, что положен гонорар… Мало ли что – вдруг они засвеченные?
– Когда приезжает твой родственник? – спросил Бобылев.
– А что, есть необходимость?
– Людей не хватает. Нужна еще одна машина с водителем. И – пара боевиков.
– Машину найдем. В крайнем случае реквизируем, как во времена революции семнадцатого года. Кеша прилетит – готовый боевик. Еще одного боевика и водителя доставай сам. Проведем еще пару операций – окончательно станет ясно, что нам нужно еще. И сколько…
Застолье тем временем плыло по накатанной дороге, дело это нехитрое многим было хорошо известно, звучали какие-то слова, тосты, – и ничем это застолье не отличалось от любого другого, собравшегося по обычному житейскому поводу, будь то именины, крестины, день Парижской коммуны или праздник Святой Екатерины-саночницы, после которого мужики в деревнях вдребезги разбивали сани, катаясь на них с гор, – но это было застолье, связанное с убийством. Нынешней ночью не стало сразу четырех человек. Выбита практически целая семья, фамилия – не стало рода и ничего, облака не разверзлись, лица убийц светлы и приятны, улыбчивы, ни дать ни взять – отпускники, собравшиеся дружной компанией махнуть в Сочи либо в горы позагорать немного… Странно! Лапик, опрокинувший сгоряча в себя несколько полных стопок водки, поплыл, растекся студнем по пространству, начал приставать к Пыхтину:
– Слышь, а как эти самые, – Лапик изобразил в воздухе что-то округлое, неопределенное, руки его не слушались, – как они это самое, – он попилил себя пальцем по горлу, – как они это самое приняли?
– Как все нормальные люди – с животным страхом в глазах.
– Расскажи!
– Зачем тебе это? – Пыхтин с холодным чужим лицом отстранился от Лапика.
– Интересно.
– Зачем? – повторил вопрос Пыхтин, поднял свой полупудовый, поросший светлой шерстью кулак, посмотрел на него задумчиво.
– Я же поэт, стихи пишу, а поэтам все интересно знать.
– Ты видел когда-нибудь, как пуля – здоровенная такая дуреха, раскаленная, сносит человеку полчерепа?
– Нет.
– И видеть тебе это я очень не советую.
– Почему?
– Пьяный вопрос. От ужаса ты можешь все свои кишки вывалить на пол. Мозг у убитого человека рассыпает метров на десять.
– Да ну… – прошептал Лапик неверяще.
– Не «да ну», а точно. Я это видел много раз. Тебе вообще надо на дело с нами сходить. У нас все равно не хватает народа.
– Я это… – Лапик потряс головой и приподнял плечи двумя острыми углами. – Я, если честно, побаиваюсь.
– Все равно придется. Без этого не обойтись. Зато больше никогда никому не будешь задавать таких вопросов. Враз образованным станешь.
Афганец видел то, чего не видел Лапик, – а видел он лицо гендиректора-кавказца, вдруг сделавшееся по-бойцовски угловатым, злым, видел его глаза, ставшие беспощадными, цепкими, из них истаяло все, кроме льда и железа… Шотоев прислушивался к его разговору с Лапиком. «С чего бы это? – внутренне подобравшись, подумал Пыхтин. – Происходит что-то не то? Или он что-то чувствует? Либо нас с этим пьяным дурачком прощупывает? Чтобы потом, как бабочек насадить на булавку и прикрепить к дощечке? Не-ет, хоть и горный орел ты, но мы тоже не безобидные тушканчики». Пыхтин сделал безразличное лицо, рассеянно оглядел пространство и хлопнул Лапика ладонью по плечу. Проговорил громко:
– Слушай, в делах твоих, в рифмоплетстве этом, я соображаю плохо. Как ты понимаешь, до Пушкина мне далеко по части оценки стихов. Был бы Пушкиным, мы бы с тобою поговорили знатно… А так – извини.
– Это ты меня извини!
– Поэтому опрокинем еще по чарке и завяжем, – Пыхтин растянул рот в улыбке, – по маленькой, чем поят лошадей, – взял со стола бутылку, налил стопку Лапику, потом потянулся с бутылкой через стол к Бобылеву и Шотоеву, сидевшему рядом с ним, – прошу… Пока не согрелась.
Бобылев медленно, как-то неохотно подставил свою стопку под бутылку, Шотоев же накрыл свою ладонью.
– Мне все, хватит. Я за рулем.
– Господи, да сегодня любого автоинспектора можно купить за пятьдесят долларов вместе с фуражкой, погонами и полосатой колотушкой.
– Тратиться неохота.
– Ну, если так, – Пыхтин поставил бутылку на стол, – то за звезду удачи, – чокнулся своей стопкой, в которую была налита вода, с размякшим Лапиком, потом с Бобылевым, – за то, чтобы она всегда горела над нашими головами.
– Вот этот парень мне нравится, – тихо проговорил Шотоев, – а тот, – он перевел взгляд на Лапика, – тот нет. Мякина.
– С одной стороны, ты всех видел, когда мы собирались в ресторане, и тогда у тебя таких замечаний не было…
– С одного раза познать всех невозможно.
– А с другой – он всего лишь оружейник, пойми это, Султан. Человеку на этом месте совсем неважно быть железным… Главное, чтобы мозги у него шурупили, а руки умели из консервной банки сделать глушитель к «вальтеру» или ТТ.
– Все равно мякина… Болтун. Стихи, как я услышал, пишет. Не чернилами, а цветными соплями. Про «чуйства» нежные. А выпив, расклеивается, как распоследняя дамочка, нюнит. Нюня же, имей в виду, всегда может сдать нас. Часто делает это на ровном месте. Имей в виду.
– Имею. Имею это в виду и не выпускаю из вида.
– Ну что ж, тогда хорошо сидим, как говорили в одном кино, да только вот… Мне пора.
– Пора так пора, – угрюмо пробормотал Бобылев. Похоже, он никогда в жизни не был веселым человеком, всегда был только таким – замкнутым, корявым, словно старый лесной пень-выворотень, настороженным, готовым в каждую секунду схватиться за оружие, слова выплевывал изо рта, словно пули; Шотоев, пожалуй, именно в эти минуты понял, что этот человек может быть не менее опасен, чем поэт-хлюпик, умеющий переделывать пластмассовые пугачи в боевые пистолеты, только опасен он с другой стороны… Шотоев вздохнул, разжевал зубами какое-то зернышко, попавшее в рот. Бобылев налил себе в стопку еще водки, залпом, не чокаясь, выпил. Поднялся. – Пойдем, я тебя провожу! На улице чуть посветлело, тучи приподнялись, стало легче дышать.
– Глядишь, и нормальная осень наладится. – Шотоев покосился глазами на небо, выбил в кулак кашель.
Вышли за ворота, скоро, наспех, попрощались, Шотоев сел в машину, завел мотор, высунул голову из окна, ткнул пальцем в железные ворота:
– Подумай, как их укрепить, не то мы тут, как голые на солнечной поляне. Нас видят все. Мы, правда, тоже всех видим, но это – слабая компенсация. Надо, чтобы мы видели всех, а нас не видел никто. Вот это будет то самое… В гараже три машины поместятся?
– Если встать потеснее, то и четыре поместятся.
– Ладно, особенно много машин держать здесь мы не будем. – Шотоев приподнял руку прощаясь и задом выгнал автомобиль на дорогу.
Он ехал медленно и думал о том, какую маску натянуть на себя, какой образ подобрать, это ведь так важно, кем быть, неспроста ведь в обиходе появилось чужое модное словечко «имидж»: что он на себе самом изобразит, то в конце концов и будет.
Причем надо учитывать абсолютно все – и слабые звенья, имеющиеся в цепи, такие как слюнявый волосатый поэт-оружейник, и то, что товарищество «Лесная сосна» просуществует очень недолго, максимум полгода, а потом рассыпется и похоронит под собственными обломками все – и долги, и просчеты с недоделками, и то, что он не имеет здесь своей базы, какую имеет, скажем, в Чечне, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии или в далеком Чимкенте… Там все семейное, свое, тейповое, все связано и повязано и если он где-то засветится – власти могут объявлять какой угодно розыск, хоть всемирный – его все равно не найдут: родные просто не дадут найти.
С одной стороны, чтобы контролировать эту разношерстную, сшитую наспех белыми нитками группу, ему придется находиться внутри нее, быть с тем же Бобылевым, человеком с волчьим лицом, не сводить глаз ни с кого, всех держать на автоматном прицеле, для этого и ему самому придется стоять на стреме и брату его Кеше, страховать друг друга, быть более жестоким, чем вся группа, вместе взятая, – это будет образ одного Шотоева, с другой стороны, жизнь есть жизнь, она не должна проходить мимо, в ней много красивых женщин, вина, музыки, разных утех и радостей, всем этим надо пользоваться, и в жизни этой должен вращаться второй Шотоев… Но должен быть еще и третий Шотоев, промежуточный между первым и вторым, совершенно иной, этакий… в общем, очень домашний, если хотите, в тапочках, с лучистой улыбкой и котенком на руках, добрый, всем сват и брат, любимец дворовых старушек и непоседливых детей. У него обязательно должно быть «дно» – квартира, где он может при случае залечь, отдохнуть, переключиться, подышать совершенно иным воздухом, чем вся его группа, а потом снова выскочить на разбойные просторы.
И этих трех Шотоевых, – совершенно разных, естественно, ибо у них должны быть разные отцы и матери, разные мозги, разная кровь, – он должен будет подчинить себе, организовать для них и жилье, и еду с одеждой, и транспорт – все, словом. Только документы у этих трех Шотоевых будут одинаковые.
Он аккуратно объехал большую лужу – на берегу лужи стояла сгорбленная трясущаяся старушка, не хотел обдавать ее грязной водой, притормозил перед перебегающей улицу собакой-сучонкой с отвислым голым животом, на котором проступали огромные козьи соски, остановился перед стайкой детишек, вздумавших в неположенном месте пересечь дорогу…
Наверное, это был еще один Шотоев, четвертый по счету, рожденный им на ходу, также ранее не знакомый. И, если честно, четыре этих Шотоева существуют для того, чтобы перекрыть, уравновесить собою нулевого Шотоева, самого главного, если на то пошло, Шотоев не хотел, чтобы на него с небес плохо смотрел Аллах. Аллах должен смотреть на него хорошо.
На повороте он увидел, что на стене заводского здания – какого-то секретного краснодарского «почтового ящика», – мигает табло электронных часов, вгляделся в него: сколько там намотало времени?
Во всяком случае, до встречи с понравившейся ему Галиной Цюпой было еще далеко – несколько часов. Не удержавшись, он прицокнул языком:
– Мхех! Изюминка! Сказка, а не женщина! – Были сокрыты в Цюпе и красота, и таинственный свет, и некая загадка, которую всякий настоящий мужчина обязательно должен разгадать.
В следующую минуту озабоченная тень появилась на его лице: что-то долго не возвращается в Краснодар Кеша… Не случилось ли чего с ним?
И вообще, какова ныне жизнь там, в далеком далеке, пахнущем сладкими дынями, которые здесь не водятся, горным медом и светящимися райскими яблочками, именуемыми мушмулой? Интересно, люди там тоже обнищали, как и здесь, или же еще держатся, сбившись в кучку, помогают друг дружке, будто ангелы небесные, либо, напротив, ведут себя не по-божески, лютуют, пластают на спинах звезды, из поясниц и с животов вырезают ремни? Шотоев помрачнел, подбородок у него по-бойцовски угрюмо выдвинулся вперед, стал тяжелым.
Он неожиданно понял, что не знает, куда надо ехать, что делать, поскольку все, что он делал раньше, было чем-то мелким, неосознанным, этакой детской игрой в поддавки, а вот настоящее, тяжкое, вонючее, что и потом будет долго пахнуть кровью, только-только начинается. Скоро их начнут обкладывать разные мусора, прокуроришки, дерьмократы из госбезопасности, и от всех придется бегать, всех водить за нос – игра предстоит опасная и азартная…
Ладно, все это потом, а для начала надо найти место для офиса, чтобы у него был адрес физический. Адрес юридический, который обязательно должен быть указан в регистрационных бумагах, есть, юрист Цюпа постарался за триста долларов, а теперь должен быть адрес физический, материальный, так сказать, где он, генеральный директор фирмы, будет принимать клиентов. И клиенток тоже. Шотоев не выдержал, засмеялся.
– Генеральный директор… – кончив смеяться, пробормотал радостным тоном. – Сказка какая-то. Дедушка Бажов.
День, начавшийся удачно, перекочевал, словно тяжелый состав, на другие рельсы – кто-то невидимый, распоряжающийся всеми нами, перевел стрелки, и вагоны впустую загромыхали неотрегулированными колесами по забытой ржавой ветке – больше ничего не удалось сделать Шотоеву… Ни помещение для офиса подобрать, ни пообедать толком, ни встретиться с одним нужным человеком в погонах, чтобы узнать, идет ли по милицейским рядам шумок после убийства грека или нет?
Он заехал в гостиницу, где жил уже два с половиной месяца, надел белый костюм, черную рубашку, обул белые лаковые туфли, глянул на себя в зеркало, и короткая улыбка осветила его лицо; из гостиницы отправился на рынок, где приобрел целое ведро кровянисто-алых роз, запечатал в полиэтиленовый мешок размером с наволочку, бережно устроил на сиденье рядом и покатил к Галине Цюпе.
Ровно в девятнадцать ноль-ноль он затормозил у ее подъезда, надавил ладонью на клаксон, в ответ раздался сложный звук, – собственно, это был не просто звук, а целая мелодия, что-то среднее между торжественным гимном какой-нибудь африканской страны и «Подмосковными вечерами».
Пригнувшись за рулем, глянул вверх, засек, что на третьем этаже зашевелилась занавеска, понял – она! Занавески зашевелились и на других этажах. В других окнах, но это были чужие окна – квартиру Галины Цюпы он вычислил точно. «Если Аллах подсобит – поселюсь тут, – подумал он, не удержался, раздвинул губы в легкой улыбке, – и буду я здесь, скажем… Шотоевым номер один».
Цюпа вышла из подъезда через несколько минут – в дорогом костюме из плотного фиолетового шелка, в туфлях такого же цвета, гладко причесанная и настолько яркая, что Шотоев невольно поцокал языком – под сердцем что-то сладко сжалось и ему сделалось трудно дышать: действительно, русские женщины – не то что горские, горянки после первого ребенка вообще превращаются в тощие деревянные кривулины, в старух без пола и возраста, а русские цветут, становятся очень привлекательными, красятся, поют песни…
Он перегнулся через букет, настоящей вязанкой лежавший на переднем сиденье, и распахнул перед Цюпой дверцу.
– Я не опоздала?
– Нет, Галочка, что вы! Тютелька в тютельку… Точность – вежливость королей. И королев.
– А-а… – голос у Цюпы неожиданно растроганно дрогнул, она не ожидала увидеть такую охапку цветов, поинтересовалась недоверчиво: – Это мне?
– Вам, Галочка.
– Жаль, что нельзя сесть рядом. Придется разместиться на заднем сиденье.
– Нет уж! На заднем сиденье пусть посидит букет цветов, а это место – исключительно для вас. – Шотоев поднял букет цветов, аккуратно перекинул его назад, поправил несколько неловко подвернувшихся головок – как бы они не сломались… Будет жалко.
– Вот так букет! – восхищенно произнесла Цюпа. – Мне еще никто не дарил сразу столько роз.
– В следующий раз цветов будет больше, – пообещал Шотоев.
– Ремень накидывать надо?
– Не обязательно.
– А если милиция остановит?
– Что нам милиция! Это называется: страшнее кошки зверя нет. Кстати, в Штатах начали выпускать майки с рисунком ремня через плечо – изображена черная портупея через всю грудь и живот, – и полицейские, представьте себе, обманываются…