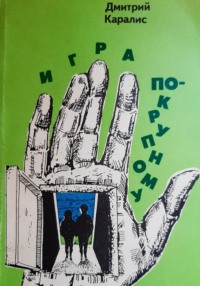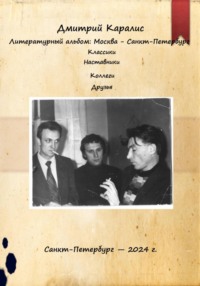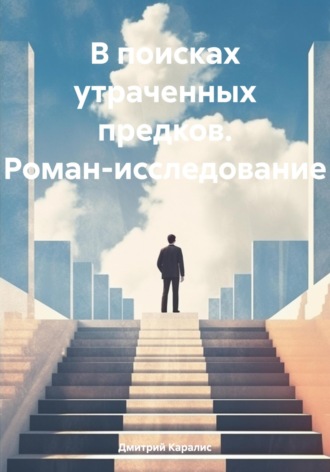
Полная версия
В поисках утраченных предков. Роман-исследование
Мат-перемат, топот, беготня. Каната не нашлось, мне бросили металлический трос толщиной в палец. В руках не удержать – скользит, колет ладони, я пытаюсь засунуть его подмышку – они тянут. Пару раз ушел с головой под воду, но трос не выпускаю. Мотнул разок вокруг локтя – «тяните!» – хриплю. А им не вытянуть – палуба скользкая, я намок, тяжелый. Моряков нет – одни ремонтники. «Большевики» с завода «Большевик», наши с «Равенства». Тянут меня, как дохлого кита по слипу, слышу – сзади вода журчит – с меня стекает. И холод к сердцу поступает – не образно говоря, а впрямую.
Меня втянули, оторвав воротник казенного тулупа. И тут свалился за борт Боря Косорыгин. Сто килограммов живого веса фыркало и материлось за бортом лодки. Меня это уже не касалось: подоспела команда, заблестели ножи, вспарывающие мокрую кожу унтов, запрыгали по палубе пуговицы, и я, неприлично журча струями, спустился через главный люк в лодку. Сняли панцирь каменеющей одежды, растерли спиртом, дали водки. Койка. Одеяло. Заснул.
Вечером обе бригады собрались в нашем общежитии и стали проводить разбор полетов. Точнее, одного – моего. Полет многопудового Бори над волнами Кольского залива до обидного мало кого волновал.
Я лежу в постели в соседней комнате и прислушиваюсь к разговору. Звякают ложечки в стаканах, вкусно пахнет свежим чаем. Меня не спрашивают – я еще и не голосовал на выборах в Верховный Совет, только в марте буду.
– Ладно, – говорит наш бригадир Слава Силин (я его недавно встретил в Зеленогорске, он преподает в «Военмехе»). – Ладно… Допустим, с флотом я договорюсь, сниму напряжение. Хотя это непросто. Но за угрозу жизни нашему единственному радиомонтажнику, молодому сотруднику, студенту-заочнику – два ящика водки? Это просто смешно. Парень мог утонуть. Нас бы всех по судам затаскали… Я понимаю еще – три ящика… Два ящика водки и один шампанского! Тогда можно о чем-то говорить, можно предположить, что вы всерьез раскаиваетесь…
Боря Косорыгин (ему багром спину отбили, пока вытаскивали):
– К-хе, к-хе… Етитская сила, даже говорить не могу… А чего ваш студент-заочник по палубе болтался? Сидел бы в мастерской и сочинял свои долбаные интегралы… Нет, поперся… Он вообще, не имел права выходить на палубу, когда проводятся испытания…
Силин (помогавший мне делать контрольные работы по высшей математике):
– Боря, во-первых, интегралы не сочиняют, а берут… Во-вторых, прочитай, что написано в «Правилах проведения приемо-сдаточных испытаний» – кто должен обеспечивать технику безопасности? Три ящика – это чисто символическая плата за ваше разгильдяйство.
Косорыгин (закашливаясь и отхлебывая чай):
– Вот, етитская сила – меня чуть не утопили, и я же виноват… Может, спиртом возьмете? Я его с ванилинчиком и чаем сварю, как в тот раз – коньяк будет, за уши не оттащишь…
Голоса «большевиков»:
– Разумно! Шоколаду принесем. Такой кайф будет!
Силин (непреклонно):
– Пейте этот коньяк сами. Мы чуть человека не потеряли, а вы – спирт с ванилином предлагаете. Стыдно так рассуждать! Спирта и у нас залейся. Нет, только «северное сияние»!
Косорыгин (мрачно):
– Ладно – три, так три… Но с получки.
Чей-то голос из наших:
– И соответственно закуска…
«Большевики» (хором):
– Ну, уж на хрен закуску! Если с закуской – то кайфуем вместе! Печень тресковую мы найдем, а картошка – ваша!
Силин:
– С вашей бригады тресковую печень плюс ящечную селедку. Лучок. Яйца. А бефстроганов с мучным соусом мы сами приготовим. Но мясо вы достаете.
Я кутался в одеяло и думал, что так же дружно и обстоятельно они могли бы готовиться к моим поминкам.
Косорыгин (решительно):
– Ладно, по рукам! Только вы попросите Димку, чтобы он нам срубленный шаэр к кабелю припаял. У нас радиомонтажника нет. А в среду военпреды приезжают. Сами понимаете…
Парторг нашей бригады Лукошкин:
– За шаэр надо договариваться отдельно… Это за скобками основных переговоров. Как бригада решит.
Голоса членов бригады:
– Работать в шахте придется – на морозе…
– Каждая жила – пять квадратов сечения, не меньше…
– Паяльник мощный нужен…
– И техника безопасности.
– Ему надо будет грелки спустить.
Хвостом к одному ЧП прицепилось другое: кабель, который они поленились закрепить на штатное место во время испытаний, как топором перерубило. Но удачно – у самого штепсельного разъема, шаэра. Они прикинули, что кабель поставлен с запасом и менять его не придется – надо только штепсельный разъем на место приладить. Вот теперь меня на эту операцию заочно и подписывали.
Договорились на три ящика, закуску и совместный вечер на нашей территории.
Мы жили в приличных коттеджах на улице Гаджиева, кажется. И наши двери были напротив друг друга. И когда ночным ветром с залива наш вход заносило сугробами, мы звонили «большевикам» по телефону, и они откапывали нас деревянными лопатами. Если ветер надувал с сопок – на утренний мороз с лопатами выбегали мы.
И следующий день вся бригада «большевиков» ходила вокруг меня. «Свитерок надень из верблюжьей шерсти, вот тебе унты новые, у тебя какой размер? Вот тулупчик новый, вот рукавицы из морской авиации – на резиночках, чтоб не уронить. Паяльник тебе нашли на пятьсот ватт, жало и кожух асбестом обмотали, чтобы тепло не уходило. Вот кислота с кисточкой – осторожней, мы тебе ее на пояс привесим. Вот олово проволочное. Вот шильдики на провода с номерами. Шестерку от девятки по точке отличишь. Не перепутай! Видишь, точечка внизу поставлена? (Это механики радиомонтажника учат!) Люльку для спуска в шахту мы тебе придумали – обрати внимание, какая удобная… Ремни страховочные. Две электрические грелки приготовили».
У меня к тому времени был третий разряд радиомонтажника. Для военного предприятия по тем временам – немалый. Горжусь до сих пор. Я учился на заочном отделении электромеханического факультета в Горном. Года через два, не найдя в Ленинграде обязательной работы по горному ведомству, я переведусь, досдав экзамены, в Институт водного транспорта.
Меня спустили в тесный стакан шахты, покрытый изморозью, и дали переноску, которую я закрепил на голове.
В желтоватом конусе света стоял пар моего дыхания. От вчерашнего озноба не осталось и следа. Под кожаную ушанку мне нацепили наушники с дугой микрофона, который сразу покрылся инеем. Я втыкал жало пробника в жилу провода и запрашивал его номер. Подо мною, в тепле лодки нервничали у раскрученного шаэра два «большевика» с контрольной лампочкой, наушниками и микрофоном. Загоралась лампочка, и они с повтором называли мне номер провода. Я натягивал шильдик, осторожно взрезал изоляцию, стаскивал ее с поворотом, мазал кислотой медь, давал ей отшипеть, лудил оловом, отдувая едкий дымок, и вставлял в скошенную, как органная труба, ячейку шаэра. Нагревал металл паяльником, прикладывал тающий прутик олова и ждал, когда он вздрагивающей каплей запечатает стаканчик с проводом…
Поговаривали, что после модернизации лодка пойдет в Средиземное море на помощь братскому египетскому народу – «бить сионистских агрессоров».
И я гордился, что две бригады ждут наверху и волнуются – получится ли у меня. После каждой пайки я надевал авиационные варежки поверх перчаток с отрезанными пальцами и ждал, пока согреются исколотые тросом руки.
И когда вечером в лучах берегового прожектора антенна дернулась, а затем уверенно нацелилась в звездное небо, я проглотил комок в горле и дал настучаться по моей озябшей спине… «Большевик» Боря стиснул меня в медвежьих объятиях и сказал, покашливая, что любит меня.
Въедливые военпреды приняли у «большевиков» антенный комплекс и улетели в Ленинград. Про отрубленный кабель знали только наши бригады.
Я пробыл в Росте до марта – проголосовал на выборах в Верховный Совет СССР, и меня отозвали телетайпограммой на завод, а через неделю, перелетев страну на турбовинтовом гиганте Ту-114, приземлился в Хабаровске и оттуда добрался до Комсомольска-на-Амуре – там в наладочную бригаду срочно требовался радиомонтажник.
Шапка падала, когда я задирал голову, чтобы оглядеть шестнадцатиконтейнерную атомную лодку, стоящую в цехе на стапеле. Жуткое дело. От киля до верха рубки – метров тридцать. Треть Исаакиевского собора.
И как мелко выглядит черная лодка, похожая на перевернутый баркас, когда ее показывают по телевизору в какой-нибудь гавани…
И жуткое чувство гордости за страну – сколько у нас умных людей, если мы можем рассчитать, построить и отправить на несколько месяцев в автономное плавание эдакого кита. Нет, Америке нас не забодать!
В Комсомольске я заменил тонким, как скальпель, паяльником два диода в приборе наведения ракеты и, купив на сахарно-сверкающем льду Амура сетку черных замерзших миног, а в Военторге – шикарные японские ботинки с тупыми носами, прилетел под Новый год в Ленинград – сдавать зимнюю сессию. Отец любил маринованные миноги и гордился, что младший сын уже ездит по стране и работает на секретном заводе.
Вытащив из духовки традиционного гуся с яблоками и капустой, отец стал посыпать его какой-то толченой зеленью, и мы заговорили про аджику, маринованный чеснок и прочие любимые нами приправы.
Я не знал, что отцу оставалось три года жизни, и наши разговоры носили вполне бытовой характер. Казалось, мы еще наговоримся. Только спроси – и отец в подробностях расскажет тебе и про войну, и про Кирова, который поил его в Смольном чаем, а потом подарил два билета в театр, и как их с матушкой сначала не хотели пускать в царскую ложу, а когда узнали, кто дал билеты, расшаркались и бережно пододвинули кресла. И на матушке было бархатное платье с меховой оторочкой, взятое у соседки, а на отце – серый железнодорожный китель с белым целлулоидным подворотничком. Отец тогда привез по заданию Смольного целый эшелон с фруктами для детских домов Ленинграда, и его вызвали доложить о поездке.
Японские ботинки оказались мне велики и, отплясав в них Новый год, я сдал их в комиссионку.
Стокгольм. Уличное кафе.
Грек Димитриус.
Ледяная вода в бутылке.
Рыжая свиристелка Катька. Рыжая симпатичная свиристелка.
Мне сорок четыре. Целая жизнь позади. Как сказал литературный приятель, с которым мы месяц писали свои романы в избушке на окраине зимнего леса: «Пушкин в это время уже помер. А мы, идиоты, – живы…».
Последнюю фразу он произнес с некоторой гордостью.
Димитриус говорит, что ему пора ехать на дачу, но завтра он ждет меня в гости, и объясняет, как лучше добраться.
Катька скороговоркой спрашивает меня, можно ли и ей приехать.
– Можно мы приедем вместе? – спрашиваю я Димитриуса.
Он на секунду задумывается и с улыбкой кивает: «О’кей! Жена и сыновья будет рады!» – И благодарит Катрин за помощь в общении.
Мы распрощались до завтра, и Димитриус ушел легкой походкой с кожаной папочкой в руке.
– У него родственники – миллионеры! Ты слышал? – заволновалась Катька. – Что же мне завтра надеть?..
– Ничего, – вяло говорю я. – Иди, в чем мать родила… Распусти волосы – и венок на голову.
Это, наверное, от жары, у меня такой юмор.
– Ну ты дурак… Нет, я знаю, что надеть… А сколько лет сыновьям, ты не знаешь? Никогда не была в Греции… А он симпатичный. Нет, вы точно похожи! Каралис – ты, оказывается, грек! – провела рукой по волосам.
Видела бы жена эти поглаживания.
10. Куда уходят рыжие свиристелки
…Спрямляя дорогу к метро, мы возвращались через огромное васильковое поле, и я не удержался – лег в густую траву и долго смотрел в голубое майское небо, слушая стрекот кузнечиков. Катька села рядом и стала рассуждать, как вкусен был греческий пирог, приготовленный женой Димитриуса Марией, и как хороши, как свежи были тюльпаны с нарциссами на лужайке коттеджа моего шведского однофамильца.
Да, походил мой батя на отца Димитриуса Каралиса – профессора философии, отставленного хунтой, чья цветная фотография начинала семейный альбом, который мы листали на кремовом кожаном диване.
А мои старшие братья весьма походили на его старших братьев! Особенно «черный полковник» Янис, с которым Димитриус уже помирился, – он копия моего брата Владимира, ушедшего в восемьдесят втором году…
Фантастика какая-то! Димитриус в сотый раз уверял, что я – настоящий грек! Я посмеивался и говорил, что я – русский. «Конечно, конечно, – соглашался Димитриус, прихлебывая из бокала вино. – Я тоже считаю себя шведом, но в душе и по происхождению остаюсь греком! Ты – грек! Посмотри, какой ты смуглый!» Мария кивала, соглашаясь с развеселившимся мужем. Я пожимал плечами, – может, и грек. Но русский грек.
– Каралис, не расстраивайся! – Катька стала срывать васильки и складывать их в букет. – Греки – это интересно. Может, окажется, что вы родственники. Будешь сюда приезжать. – Она оглядела тощий букетик. – Только я, наверное, скоро уеду…
– Куда? – Я покусывал травинку.
– Домой…
– А чего вдруг? – Я поднялся и сел.
Катька пожала плечами:
– Совсем не «вдруг». Просто надоело…
– Понятно, – я пощекотал травинкой Катькину шею. – Знаешь, почему я смуглый и быстро загораю?
– Потому, что грек.
– Нет, – помотал я головой. – У меня дед по материнской линии был молдаванином. Профессор химии, жил в дореволюционном Тамбове. Александр Николаевич Бузни. Смоляная борода, густые черные волосы…
– Молдаванин? – Катька вырвала у меня травинку. – Ну и коктейльчик! – покрутила рыжей головой. – И ты считаешь себя русским?
– А кем же еще!..
…Я загнал машину через распахнутую аппарель в гулкий трюм парома, дождался, пока матросы закрепят крючьями колеса, и вышел на причал.
Катька приподнялась на цыпочки и картинно обвила мою спину руками. Возложила голову на грудь, словно хотела услышать, как бьется мое сердце.
– Поцелуй меня на прощание, – попросила тихо. – Наверное, мы уже не увидимся.
Чмокнул в пахнущий шампунем пробор…
– А в губы? – Мне показалось, во взгляде сквозь озорство пробиваются грусть и неуверенность.
Во, дает, феминистка! И сколько таких рыжих симпатичных феминисток сбивает нас с пути истинного! Каждому женатому мужчине надо выдать медаль «Муж-герой» от первой до десятой степени – в зависимости от тяжести преодоленных соблазнов.
Я приобнял ее за плечи и перестал слышать крики чаек. Мне, конечно, светит десятая степень, за самые тяжелые испытания…
Катька с сияющими глазами отошла от меня и покосилось на здание морского вокзала. Там, на низком крылечке возле бесшумных дверей, толпились люди. Она словно выглядывала кого-то.
– Ты чего? – сказал я, чтобы что-нибудь сказать.
Она прошлась изучающим взглядом по моему лицу и показала красивым пальцем на здание эстонской компании, высившееся в начале длинного мола:
– Я поеду домой с того причала! Паром «Эстония»!.. Вот тебе мой таллиннский телефон и адрес. Напиши…
Я сказал, что напишу. Она притянула меня за уши и влепила долгий поцелуй в губы.
– Не перестаю удивляться эстонским свиристелкам, – пошатываясь, сказал я.
– А я тебе!
– Почему?
– Потому. Иди, скоро отправление. – Она подтолкнула меня к трапу, перекрестила и пошла к стеклянной коробке вокзала с поникшим шведским флагом.
У дверей к ней подошел угрюмый белобрысый парень, и я догадался, что это Эрик. Катька сказала ему что-то язвительно-резкое и стала усиленно махать мне рукой – милый уезжает… Артистка!
Эрик хмуро покосился на меня и отвернулся.
Я тоже махнул ей несколько раз и, слегка обиженный этим спектаклем, взошел на паром.
…Когда через много месяцев я позвонил в Таллинн и попросил Катрин, свистящий женский голос спросил, какую Катрин мне нужно, как ее фамилия. Я назвал фамилию.
В трубке задумались.
– Она еще работала в Швеции, – подсказал я. – Девушка такая…
– Та, та, – печально сказали в трубке. – Та тевушка… Та тевушка пагип на пароме «Эстонья». Они стесь польсе не сывут.
Я извинился и положил трубку.
У нас в Зеленогорске стоял теплый май, цвела сирень, только не прыгали по траве серые и черные крольчата…
Рыжая симпатичная свиристелка. И чего ей не сиделось дома? Ведь паром затонул на маршруте Таллинн—Стокгольм, значит, она опять плыла в Швецию.
Я не стал вычеркивать ее из записной книжки, а лишь поставил против ее фамилии крест.
Часть II
Часть II. Записки ретроразведчика
Ни один человек не богат настолько,
чтобы купить свое прошлое.
Оскар Уайльд
1. Досье на самого себя
Россия – не государство, а часть света.
Владимир Митрофанович Пуришкевич,
неплохой стрелок по движущимся
целям, бессарабский помещик,
член Государственной думы
Пятый год я собираю сведения о фамильных кланах, обитавших в разных уголках земного шара: в придунайских княжествах – Молдове, Валахии и Трансильвании, в Греции, Венгрии, Речи Посполитой, Великом княжестве Литовском, Петербурге, Швеции, Москве, Тамбове, Пошехонье, Парголове и слободе Колпино Царскосельского уезда Петербургской губернии, на берегах Дуная и Днестра, Прута и Дона, Невы и Днепра, маленькой речушки Швентойи (что по-литовски значит Святая), в Бразилии и Америке; в гудящих густым колокольным звоном городах Поволжья.
Иногда я тяну скользкую упругую сеть, называемую Интернетом, – в ней кувыркаются врачи, несколько моряков и один ветеран войны во Вьетнаме, чей сайт мог бы поспорить помпезностью с аналогичной игрушкой Александра Македонского, доживи тот до наших дней. Еще этот герой-вьетнамец пишет военные стихи, которые за отдельную плату может переплести и выслать в ваш адрес.
Попадаются придворные и военные начальники, юристы и поэты, помещики и народовольцы, бояре, рабочие и подмастерья, крестьяне, семинаристы и гимназисты, профессора и отставные фельдфебели, солдаты – георгиевские кавалеры. Есть редкой отваги поручик, командовавший ротами в Германскую и получивший полный котелок боевых орденов и звание штабс-капитана.
Есть принц и принцесса. Есть полный список приданого, составленный бабушкой принцессы в 1806 году; известны надгробные надписи на всех трех могилах, но до наших дней дошел только обелиск принца – его звали Алексей Карагеоргиевич, фигура, более приметная в русской, чем в сербской истории.
Есть девушка-служанка, ставшая женой потомственного дворянина; есть почетные железнодорожники и журналисты; секретные доктора наук и люди с четырьмя классами образования. Есть Великий Логофет и Великий Армаш: первый был главным боярином в княжестве Молдова, канцлером и хранителем государственной печати, второй возглавлял личную охрану господаря и заведовал в княжестве рабами и полковой музыкой.
Есть церковь, которую старший брат, служака князя, выстроил в память о казненном младшем брате, разбойнике…
Встречаются предводители дворянства и монахи. Найдутся исправники уездов Российской империи и митрополиты, летописцы целых народов и «бедный кондуктор, молящий о помощи» при аварии царского поезда. Есть судейские чиновники – их почему-то много, как, впрочем, и привлекавшихся.
Следы моих ушедших на небеса конфидентов обнаруживаются в повстанческих землянках Тамбовщины 1921 года и в скучных меблированных комнатах Петербурга, в литературных салонах Серебряного века русской поэзии и на коммунальных кухнях советского периода.
Для некоторых из них не окажется чужим королевский дворец в Бухаресте, а также поместье на крутом берегу Днестра, рядом с которым, как уверяет молва, Остап Бендер пытался перейти по льду румынскую границу и, получив по кумполу золотым блюдом и услышав лязг затвора, грустно произнес: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы». У меня хранится фотография этой старой румынской пограничной заставы – двухэтажное каменное здание, где при советской власти был санаторий для нервнобольных, а теперь живет лишь сторож с хромой собакой. По местному преданию, именно в караулке первого этажа румынские пограничники делили «бранзулетки» и прочие драгоценности, отобранные у великого комбинатора. По вечерам сторож спускается к Днестру вдоль остатков ограды из колючей английской акации, за которой раньше были лужайки поместья, ловит в реке жирных упругих карасей и вглядывается в быструю у берегов воду – не мелькнет ли меж камней золотой браслет или связка обручальных колец.
Есть католики и православные.
Православных больше.
Когда-то они строили церкви и отдавали крепостных цыган в дар монастырям, стреляли на жаркой лесной дорожке из-под саквояжа с деньгами в бандита-дворянина Котовского, считая его хвастуном и парвеню, разбивали чужие семьи и создавали собственные, восставали против большевиков и состояли в большевистской партии, готовились свергать царизм и спасали царей ценой собственной жизни.
Пока не обнаружено китайцев, индусов, смекалистых чукчей и гордых табасаранцев. Напрочь нет малазийцев. Ни одного!
Совершенно фантастической выглядит недавно присланная мне статья из румынского исторического журнала, свидетельствующая о родственных связях моей матушки, тушившей в блокадном Ленинграде зажигалки на ночных крышах и хитростью поймавшей немецкого ракетчика, с тринадцатью королевскими династиями Европы и, кажется, уже несуществующим Императорским домом Бразилии. В статье наглядно прослеживается, что нынешние короли Швеции, Португалии, Болгарии, Испании, Дании, Норвегии и проч. и проч. и моя партийная матушка, вступившая в ВКП(б) в блокадном Ленинграде, имеют в глубине веков единых предков.
Великое смешение народов и сословий во флаконе одной ленинградско-петербургской семьи…
Если вдуматься, я собираю досье на самого себя, стоящего на вершине гигантской, растущей из глубины веков человеческой пирамиды. Подо мною, расширяясь в геометрической прогрессии, бродит многоэтносный конгломерат, исчисляемый миллионами предков.
Там клубятся дымы былых сражений, слышится стук конских копыт и влюбленных сердец, гремят пушки и свистят пули, льются слезы радости и горя, трещат на ветру знамена, бьют барабаны и звучат похоронные мелодии…
История с поисками моих предков началась давно. Скажу только, что, когда ушли отец и мать, я ничего не знал о своих родовых корнях и, возможно, жил бы, как большинство сограждан, спокойно, не оставь мне родители, писавшиеся в паспортах русскими, две довольно мудреные фамилии – Каралис и Бузни.
На том историческом отрезке времени, когда не стало наших родителей, старшим братьям и сестрам было не до генеалогических размышлений: как и весь советский народ, они смотрели в будущее: страна покоряла космос, освобождала Африку от колониализма, читала Хемингуэя и Евтушенко, физики спорили с лириками, и никто не хотел оглядываться в темное дореволюционное прошлое.
Да, мы всегда считали себя русскими, но фамилия-то откуда? И фамилия второго дедушки – Бузни – разве она славянская?
Теперь, когда из восьми детей нас осталось четверо, я вздумал найти ответ на этот вопрос…
2. Вопросы
Отдайте мне мое,
а чужое я и сам не возьму.
Фома Аквинский в застольной беседе
Мои сестрички – Вера и Надя – не только пугали меня в детстве тем, что они – американские шпионки, убившие моих настоящих сестер и переодевшиеся в их одежду, чем доводили меня до слез и топаний ногами: «Нет! – рыдал я, тыкая пальцами в сестер. – Нет! Ты – Вера, а ты – Надя!», не только вволю дурили баснями про Бабу Ягу, которая вылезает по ночам из круглой печки за моей кроватью, и рассказывали про черную руку, хватающую за горло спящих детей, но – и это самое ужасное – твердили про цыганку, которая подкинула меня, голопузого малыша, в полуторку, на которой их семья ехала летом 1950 года на дачу в Зеленогорск…
– Мы едем в кузове на мешках с бельем, вдруг – тю-ю! – летит пацанчик голопузый. И прямо на Джульбарса упал! Джуль сначала зарычал, а потом стал его облизывать.
– Надёжа, а помнишь, у него еще бронзовый медальончик был – там «Данко» было написано, – перемигивались зловредные сестрицы. – Это мы решили его Дмитрием назвать! Наш Димка-то тогда где-то потерялся, и мы решили вместо него Данко усыновить…
– Помню, помню! – притворно кивала младшая. – Где-то я этот медальончик недавно видела…
Моим придурошным сестрам было страшно весело наблюдать, как я забирался под стол, прижимал к груди плюшевого мишку и ревел там: я чужой в этой семье, меня подбросила цыганка! И мама – не моя настоящая мама, и мой усатый папа – не папа… И где же я – тот настоящий Дима? А-а-а!..
Жаль, что в ту детскую пору я не пожаловался родителям на сестриц, старшая из которых была отличницей, а младшая – заводилой всего двора. Думаю, для начала их бы выдрали, а потом показали психиатрам, и когда они к моему совершеннолетию вышли бы из престижной среди придурков больницы имени Кащенко, мы за вечерним чаем поговорили бы, кого и куда подбросили. Шутю. Поезд на Воркутю давно в путю. Сейчас мы его догоним.