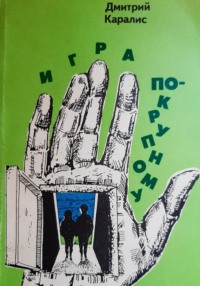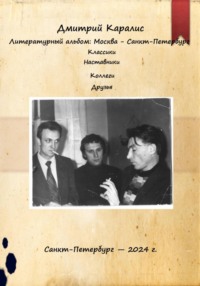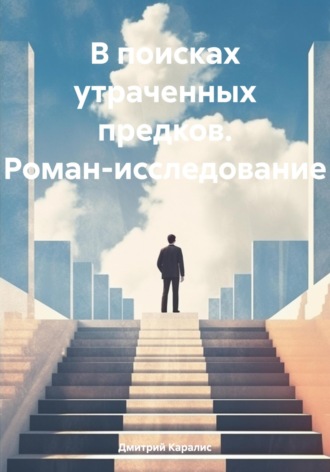
Полная версия
В поисках утраченных предков. Роман-исследование
Я достал из чемодана бутылку «Столичной» и сунул в морозилку. Плюхнул замороженные овощи в кастрюлю с кипятком, вытянул бананы с апельсинами, большую бутылку пепси, огурцы, помидоры, нарезал каравай шведского хлеба. Вспомнил про тушенку, которую, как истинный русский путешественник, в качестве «нз» всегда беру в дорогу…
Что я знал про Катю? Мать – эстонка, отец – русский. Закончила педагогическое училище, курсы шведского языка, год работала нянькой в шведской семье. В книжном магазине служит полгода, снимает комнату в квартире, где живет еще негритянская семья. В магазине платят мало. Встречалась с электриком Эриком, ездила миловаться к нему на дачу, их застукала его жена – приехала ночью, устроила скандал, обозвала эстонской коровой, увезла Эрика. Бездетный Эрик, обещавший развестись с супругой, не мычит, не телится. Звонит ей, предлагает встречаться на даче у приятеля. Катька поставила условие: разведешься – звони… Еще он заставил ее провериться на СПИД. «А жену и себя ты не хочешь проверить? И мне справку принести?», – ядовито спросила Катька. Эрик всерьез думал несколько дней, а потом сказал, что не хочет. Чем он объяснит такую проверку жене?
Это Катька с легкостью рассказала мне по дороге, как случайному дядюшке-таксисту, везущему ее после пирушки домой. Как бы такая игра, рассудил я.
Мы сели за стол, и я налил себе пепси.
– А почему не водку? – удивилась Катя. – Я одна не буду!
– Не уговаривай, – твердо сказал я. – Если я выпью, мне из этой Швеции будет не выбраться.
– Ты что, запойный? – восхищенно предположила Катька и поспешно выпила не чокаясь.
Нравилась ли мне Катя как женщина?
В ней не было загадки. Все остальное было на месте. Мужчине моего возраста было бы лестно завалиться с ней на широченную тахту, но все оказалось бы слишком просто. Как всякий русский, я остерегаюсь простых решений. И вообще получилось бы, что Катька соблазнила меня, а не наоборот. Вы эти феминистские штучки бросьте! Мы, мужчины, умеем постоять за свои права.
Н-да, понимаешь.
Вот такая у меня строгая философия.
– Закусывай, – я протянул ей дольку посыпанного солью огурца. – Тушенку погреть или холодную будем?
Катя захрустела огурцом и сказала, что она решила похудеть на шесть килограммов, чтобы назло Эрику «взвесить меньше, чем его жена». Поэтому есть она не будет. Огурцы не в счет – они способствуют похуданию.
Я сказал, что она не толстая. И вообще, тощая корова – еще не лань.
– Нет, я стала очень толстая. – Она огладила рукой бедро. – Здесь, в Швеции, очень важно иметь хорошую фигуру. Тем более я не шведка, а эстонка. Я должна быть особенно привлекательной…
– Чтобы выйти замуж?
– И для этого тоже.
Я вывалил тушенку на тарелку, сыпанул отварных овощей. Полил кетчупом.
– Давай еще выпьем! – попросила Катя.
Белый стакан сошелся в воздухе с коричнево-негритянским. Чокнулись. Выпили.
– Как я их всех ненавижу! – Катя неожиданно стукнула кулачком по столу. – Свиньи, курвы поганые… Они нас за людей не считают. Тупые, как не знаю кто… Телевизор сами подключить не могут, а строят из себя интеллектуалов … – Она по-мужски уперлась взглядом в стол, и ноздри ее гневно шевелились. – Налей мне еще… Не бойся, я на такси доеду.
– Только тебе поддатой на такси и ездить…
– Здесь в любом виде на такси можно, – она усмехнулась, – ничего не случится. Это не у нас.
Катя налила себе полстакана водки и махом выпила. Я понял, что звонить однофамильцу мне придется одному. Вытащил из пакета справочник и нашел телефон Димитриуса. Катька, подбодренная присказкой о сомнительных достоинствах тощей коровы, уплетала тушенку.
Я набрал номер и ждал секунд тридцать. Никого. Набрал снова. Может, уехал на дачу или в гости. Или переехал…
Потом мы сидели за столом и разговаривали. Я курил, прихлебывал пепси, и дым плавно утекал в распахнутое окно. Катька бесилась, рассказывая о работе в магазине и своем хозяине Улле.
Улле требовал, чтобы она выполняла главнейшую заповедь торговли: покупатель – это бог! Дети роняют книги с полок – надо с улыбкой поднять их и не дергать родителей, которые в это время переговариваются за стеллажами. Какую бы глупость ни сделал покупатель – надо улыбаться. Надо быть вежливым, хоть ты тресни.
– А они вежливые! Зацепят задом книги и не поднимут. А воруют сколько? И я должна улыбаться?.. Я уже через месяц хотела уволиться, но Улле отвел меня в кафе, заказал ужин с вином и целый час толковал, что покупатель – это бог. А в конце шиканул – отвез на такси домой. Где он найдет такую дуру, чтобы знала русский и шведский и работала за копейки? Я домой приезжаю – все думают богачка, в Швеции живет. – Слегка окосев, Катька размахивала руками. – А денег только на квартиру и одежду хватает. Правда, Улле разрешает пить кофе за счет фирмы и печенье с джемом. Сейчас разрешил купить для тебя и гостей вино. Только ты не пьешь…
Потом Катька всплакнула, вспоминала одноклассников, говорила, что ей безумно жалко Советский Союз, свою мать, которая сейчас без работы, и отца, который начал спиваться, и своего жениха, которого бросила в Таллинне. Какой дурак придумал, чтобы эстонский язык стал обязательным для всех? Это крошечный язык, во всем мире на нем говорит один миллион человек. Ее русский отец никогда не знал по-эстонски больше десяти слов, хотя прожил в Эстонии сорок лет. Его уволили. Работы на кораблях не стало. Раньше он плавал за границу – зачем ему за границей эстонский язык? С кем там по-эстонски разговаривать? Эстонская литература не была бы никому известна, если бы не переводы на русский.
– Какой дурак это придумал! Какой дурак? – горестно раскачивалась Катька. – Как хорошо мы жили – ездили, куда хотели. На каникулы в Молдавию, Ленинград, Тбилиси…
Заговорила об Улле.
– Однажды он напился в ресторане и кричал: «Я стану миллионером!» Настоящий маньяк! Купил себе с кредита спортивный «порш» – номер набекрень висит, ездить не умеет. А ты знаешь, сколько стоит «порш»? Как десять наших «Жигулей»! – Она помолчала, производя в своей рыжей головке вычисления, и поправилась: – Даже больше – как сто «Жигулей»!
Она встала из-за стола, невесомо села мне на колени и положила руки на мои плечи. Посмотрела пьяно и нежно.
– Ты не думай, я не пристаю к тебе. Просто мне хорошо, что ты приехал…
Я сказал, что ничего такого и не думаю. Сиди, пожалуйста, если хочется. А сам подумал: вот он, западный феминизм, в его неприкрытых формах. Хочет – водки выпьет, хочет – на колени мужику брякнется. Следовало попридержать даму за талию, но я сидел, как истукан. Можно сказать, боролся с феминизмом.
– Я так от них устаю. – Катька поднялась, и ее шатнуло. – Поговорить не с кем… Скоты, сквалыги… И этот трус Эрик, его жена… «Ты эстонская потаскуха! – кричит. – Хочешь отобрать у меня мужа, взять все готовое! Убирайся к своим коровам!»
– Но ты его, наверное, любишь?
– Уже не люблю. Он бросил меня ночью у закрытой дачи и уехал с женой. Трусливый ссук! Кобель! Я десять километров шла босиком – одна туфля осталась в доме. А он уехал в машине. Да в Эстонии ни один хуторской парень так не поступит. Сейчас, говорит, что жена решила завести ребенка… Он не должен ее взволновывать.
– Н-да, – сказал я.
А что еще скажешь…
Досталось и негритянской семье, и квартирной хозяйке. Семья грязная, ходят в ночном белье по квартире, шумят по ночам, главный негр пытался ее прихватывать, хозяйка – шведская мигера, дерет за комнату втридорога, надо менять жилье.
– Возвращайся домой…
– Надо мной смеяться будут. Не хочу быть неудачни…вецей…
– Тогда терпи, – сказал я.
А что еще скажешь…
Она быстро окривела и принялась изображать, как маленькие дети, оставленные родителями на улице, расплющивают о ее чистую витрину носы и мажут стекло шоколадными губами: «Уа-уа-уа!»
– А этот гнусный Улле требует чистоты…
Она выпила еще и повалилась на тахту.
– Иззвни, я такая пьяная… немного полежу. Пррблем не буит.
Через минуту она уже похрапывала и пускала изо рта пузыри.
Я включил телевизор, посмотрел мировые новости, убрал со стола, вымыл посуду, в одиннадцать вечера поднял Катьку будильником, посадил ее в такси возле гостиницы, дал водителю пятьдесят крон и наказал, чтобы все было о’кей с доставкой. Еще я сделал вид, что записываю номер его автомобиля.
На ступенях гостиницы меня окликнул седой пьяный швед и попросил прикурить. Я чиркнул зажигалкой, он долго ловил концом сигареты огонек, а когда, дымя и напевая, пошел прочь, я увидел, что зад его штанов вырван точно собачьими клыками и белое белье сверкает в дыре.
Я поднялся в номер, принял душ, перевернул обслюнявленную подушку, встряхнул одеяло и лег спать. И неожиданно придумалось ритмичное название рассказа: «Барабан, собачка и часы». Вот только о чем рассказ, подумал я. И нашел ответ: о барабане, собачке и часах. О чем же еще?..
И думалось о том, что я, наверное, старый пенек в тюбетейке, если выпроводил девушку из своей постели и потерял интерес к жизни и новым впечатлениям, коль не брожу по Стокгольму, которым все восхищаются. Да и по Петербургу давно не брожу – проскочишь на машине по Дворцовой набережной, даже на Петропавловку не глянешь, и в Летний сад не ходил лет десять… Работа, работа, работа… Даже некогда сходить в лес и понюхать ландыши, как говорил мой старший брат, которого я в повести назвал Феликсом.
Брат, похоже, знал о нашей фамилии не больше моего, хотя и был старше меня на шестнадцать лет. А может, и знал, да темы разговоров у нас были иные. Мы, как и весь советский народ, смотрели в будущее. Фотографии усатых-бородатых дедов в сюртуках и инженерских тужурках казались анахронизмом. Может, они и не были пособниками царского режима, но без них спокойнее. Портрет Есенина с трубкой над журнальным столиком казался привлекательнее твердых пожелтелых карточек с вензелями несуществующих фотографических ателье. Сейчас я так не думаю, но тогда…
Брат ушел в сорок девять лет, и семья осталась без соединяющего лидера. Никто не называл нас хитрованами или тупицами, не поднимал среди ночи пионерским горном, чтобы идти строить новый дачный туалет, но жить стало скучнее и безысходнее, что ли… И новый дом, который мы выстроили под его идейным руководством после смерти отца, уже не сближал нас, а растягивал по своим комнатам и крылечкам.
И еще думал про жену, сына, дочку, которая скоро должна приехать на каникулы от матери из Мурманска, и вспоминал собаку Юджи и кошку Дашку, которых привезли в дом в один день. Да, пенек я в тюбетейке… И почему в гостинице нет комаров? Им не возлететь до десятого этажа или просто нет по природе?..
5. Продолжение борьбы с феминизмом
На следующий день я подкатил к магазину на своей бывалой «вольво» и сразу увидел Катьку. Она как ни в чем не бывало сидела за кассой. Примадонна такая. Будто вчера и не пила.
Вру. Сначала я увидел свой портрет в витрине с надписью на двух языках: «У нас в гостях известный русский писатель Дмитрий Каралис со своей новой книгой о жизни в современной России. Встречи с читателями. Автографы. Добро пожаловать!» Только потом увидел Катьку.
– Как доехала? Как дела?
– Ой, не спрашивай! Все в порядке, но голова раскалывается. Можешь купить мне воды и аспирину? Я денег дам…
– Может, пивка?
– Нет-нет-нет. Только воды и аспирину. Я пока кофе сварю.
Минут через десять мы с Катькой уже вели, можно сказать, совместное хозяйство. Я заливал шипучую таблетку аспирина минералкой, Катька спрашивала, сколько сахару положить мне в кофе. На двери магазина шлагбаумом висела лаконичная табличка. Мы сидели на кухне в просторном подвале, и от железной винтовой лестницы текла ощутимая прохлада.
– Есть хочешь? В холодильнике сыр, булка, чипсы остались…
– Спасибо, я завтракал. А где наш скиталец Улле? Играет в хоккей или летит на дельтаплане?
– Улле… – Катька отставила пустой стакан и поморщилась. – Брр… Звонил. Сказал, чтобы я тебя опекала. Сегодня студенты-слависты должны прийти. В три. Как я вчера надралась…
– Сейчас полегчает. Кофейку выпей.
– Он с дачи звонил. Сходим в обед искупаться?
– Искупаться можно – плавки в машине есть. Мне бы в гостиницу съездить, переодеться. Не в шортах же перед студентами выступать.
Катька сказала, что с местными студентами можно встречаться хоть в шортах, хоть в плавках, хоть голышом – им на все плевать. Это же не король Швеции приедет… Вот на короля им не плевать. Вот такие они, шведы.
– Кажется, полегчало… – Катька потерла веснушчатый нос и вздохнула глубоко. – Ты извини, что я вчера напросилась… – Личико ее и впрямь посвежело.
– Это ты извини, что я тебя напоил…
– Я соскучилась по своим… – Она зябко обняла свои голые плечи. – Хорошо, что ты приехал…
И сердце мое обмякло блаженно. Я догадался, что помогло моему организму стойко выдержать натиск феминизма. И отвернулся с улыбкой, разглядывая подвальную кухоньку – печки, духовки, посудомоечную машину; все-таки техника у шведов симпатичная.
– Ну что, позвоним моему однофамильцу?
– Позвоним! – кивнула Катька. – Хочешь, я скажу, что у нас в гостях русский писатель, его однофамилец? И приглашу на встречу! Может, вы родственники! Ты будешь приезжать к нему в гости, заходить ко мне. Мы будем продавать твои книги. Я вчера была очень противная?..
– Нормальная. Несла шведов и наших перестройщиков в хвост и в гриву.
Катька махнула рукой – все, дескать, правильно.
– А я тебя? Не разочаровал?
– Чем? – Она скрестила на груди руки и посмотрела на меня с язвительной улыбочкой. Рыжая бестия! – Тем, что не трахнул пьяную девушку?
Я пожал плечами и не смог сдержать улыбку .
– Какой ты глупый… – сказала Катька.
– Постараюсь запомнить, – кивнул я.
А что еще скажешь?
Мы допили кофе, Катька сунула чашки в посудомоечную машину, и под нашими ногами замелькали рифленые ступеньки лестницы – мы стали вывинчиваться из подвала, чтобы дозвониться до подданного шведского короля господина Каралиса. Родственника или однофамильца?..
Разговор занял две минуты. Димитриус Каралис сказал, что готов приехать в магазин «Интербук» и познакомиться с Дмитрием Каралисом из Петербурга. Ему хотелось бы подробнее узнать о возможных родственниках в Петербурге, и он с удовольствием встретится со мной. Когда это удобнее сделать?
– Спроси, он из Латвии или из Литвы? – подсказал я.
– Подожди! – отмахнулась Катька, зажимая ладонью трубку. – Когда ты хочешь с ним встретиться?
– Да хоть сейчас!
Катька договорилась на четыре часа, после студентов-славистов. Про мое писательство она тоже ввернула, заранее поднимая мою репутацию.
– Если хочешь, поговори с ним. Он говорит по-английски.
Я взял трубку и поприветствовал тезку. Сказал, что живу в Петербурге и иногда бываю в Стокгольме по делам. Мне сорок четыре года. Скоро уезжаю домой. Мне будет приятно встретиться с ним и поговорить о нашей общей фамилии.
– О’кей! – сказал Димитриус. – Когда ваша семья приехала в Россию?
Я сказал, что мои предки жили в Петербурге с середины девятнадцатого века… А что было раньше – не знаю.
Димитриус удивленно присвистнул: «С середины девятнадцатого? О’кей!»
– А вы из литовцев или из латышей? – спросил я.
– Я – грек! – засмеялся Димитриус. – Наша фамилия греческая! Вы разве не знаете?
Еще он сказал, что хорошо осведомлен, где расположен магазин «Interbook». Ему случается частенько бывать в тех краях. И повесил трубку.
– Ну что? – спросила Катька. – Что ты молчишь?
– Он – грек! – я удивленно поднял плечи.
– Ну и что?
– Ничего…
– Может, ты и правда, грек? – пригляделась к моему лицу Катька. – Смуглый. Кареглазый. А почему ты не спросил, кем он работает?
– Я же глупый, – напомнил я.
– Ты не грек, – поставила диагноз Катя. – Ты вредный и злопамятный. Значит, ты литовец или латыш. Они все такие!
– Да, – кивнул я. – Постараюсь запомнить! А все эстонки – сущие ангелы. – Я сделал Катьке рожицу, чтобы она представляла, какие эстонки ангелы, и пошел с сигаретой к двери.
Она догнала меня и стукнула кулачком в спину. Феминизм в чистом виде! Но я даже не обернулся.
Видела бы жена, как я терпеливо борюсь с его проявлениями в западной молодежи…
Я вышел на улицу, закурил и стал прохаживаться перед витриной, искоса взглядывая на свой портрет и Катьку, уже болтавшую с улыбкой по телефону.
Ехал грека через реку…
Впрочем, можно сказать, что мой батя был слегка похож на грека! Смугловатое лицо, ореховый цвет глаз, орлиный нос, черные буденовские усы… Эх, батя, батя! Не нашлось у тебя времени рассказать детям про фамилию. Про блокаду рассказывал, про «Дорогу жизни», по которой водил поезда, про детские проказы и юношеские увлечения, а вот о корнях не успел поведать. Или не захотел?
Вежливые, но унылые шведы.
Жара.
Витрины магазинов, меж которых идешь, как листаешь рекламный буклет. Сидит манекен в витрине и болтает ногами – рекламирует брюки. На брюках ценник. И в будни болтает, и в выходные болтает. До чего надоел этот болтун со своими протезными ногами и сдержанной улыбкой!
В обеденный перерыв мы спустились с Катькой к пляжу и искупались. Съели по мороженому. Скамеечки на зеленых холмах, тень деревьев, мостки с лодками, чистая холодная вода.
Сколько написано о золотистом пушке в ложбинке на женской шее, о тонких лодыжках… Есть о чем писать.
Людей полон пляж. Но тихо. Даже дети не вопят, играя в мячик. Листочки едва колыхнутся от ветра – слышно. Это тебе не Чертово озеро под Зеленогорском, где компания, приехавшая на джипе, слышна на другом берегу.
Если бы Катька не строила гримасы, изображая неприятных ей людей, она бы тянула в моем мужском понимании на крепкую четверку. Может, она только со мной, старым пеньком, такая непосредственная? А с ровесниками – сдержанная леди?
И вопрос, как палкой по лбу:
– А жена у тебя хорошая? Не изменяет тебе? – И, не дождавшись ответа: – А ты ей?
Я, после некоторого замешательства:
– Армянское радио на глупые вопросы не отвечает…
– Ну, скажи! – Она лежит на животе и с усмешливой мордочкой пытается заглядывать мне в глаза. – Скажи!
Сколько ей лет? Даже не знаю. Двадцать-двадцать пять? Эксперт в таких вопросах из меня никудышный. Мне сорок четыре. Одним словом, дочка. Лезть к папаше с такими вопросами – нехорошо. О чем я и говорю ей.
– Все писатели и артисты – бабники, я знаю…
Она дразнит. Я не поддаюсь. Закуриваю неторопливо. Солнце припекает спину.
– Ты только что курил!
– Я волнуюсь.
– Никогда бы не вышла замуж за артиста, какой бы красивый он ни был. А почему ты разволновался?
– В три – студенты. В четыре – Димитриус.
Я и правда волнуюсь.
– О чем мне с этими студентами-славистами говорить? И на каком языке?
– Они с преподавателем придут. По-русски понимать должны. Не поймут – переведу. По-английски можешь говорить. Только не зэкай, когда произносишь определенный артикль. Не «зэ», а глухое «дэ». «Дэ»…
– Тоже мне англичанка! С этим «зэ» меня все, кому не лень, достают. А если меня так в школе научили? Я английский язык в студеном городе Кандалакша изучать начал. На берегу Белого моря. Слышала про такое? Я там четыре года прожил, и английский язык преподавала учительница немецкого. Другой иностранки в школе не было.
– Зэ тэйбл! – хихикает Катька. – Зэ кар! А почему ты в Кандалакше жил?
– Отец себе пенсию северную зарабатывал, – говорю. – Газету редактировал. Я же не смеюсь, когда ты вместо «дурак» говоришь «турак», а вместо «хороший бар» – «кароший пар»… Оставь мой английский в покое. Старую собаку не научишь новым фокусам.
Хвать меня кулаком по спине!
Я же говорил: все эстонки – сущие ангелы. Она, наверное, собаку на свой счет отнесла. Может, она по-русски вообще через слово понимает.
Я сказал, что не усматриваю причин панибратства с мужчиной, который вдвое старше этой рыжей, хоть и симпатичной – тут я через плечо оглядел ее от макушки до лодыжек – свиристелки.
– А что такое «свиристелки»?
– Это которые все время «сю-сю-сю», и все им по фигу, – пояснил я. – Не серьезные такие девочки. – И стал одеваться.
– Ага! Я – рыжая «сю-сю-сю»! Ты у меня еще получишь!
– Я сказал: «рыжая симпатичная»… А не просто «сю-сю-сю».
Слышала бы жена эти разговоры.
6. За литературную державу обидно
Встреча со студентами началась комкано. Их было шесть человек вместе с преподавательницей: все худые, скрюченные, железные очки, светлые волосики. Катька организовала стулья, и мы сели полукругом. Блокнотики, авторучки. Преподавательницу звали Мика. Это я быстро запомнил – у нас в гараже была рыжая собака Мики, дежурила со мной по ночам.
Рыжая Мика включила диктофон и задала первый вопрос: «Сколько книг вы имеете, которые написал?»
Я начал свежо и оригинально – с того, что любой писатель всю жизнь пишет одну книгу. Сколько бы, дескать, наименований книг не числилось в активе писателя, книга всегда одна – она слепок, калька с его жизни. Бумага, как известно, прозрачна, и мысли автора о добре и зле, жизни и смерти, любви и ненависти, верности и предательстве – всегда просвечивают сквозь листы его книг. Автор может прятаться за масками своих героев, но свои взгляды на жизнь он не может спрятать от читателя. Свежо, оригинально, ничего не скажешь.
– Возьмем «Трех мушкетеров» Александра Дюма… Я, надеюсь, все читали эту книгу?
Ожидаемых кивков не последовало. Катька стояла за прилавком и делала мне страшные глаза.
– Быстро говорю? – прервался я.
– Нет-нет, хорошо, – кивнула Мика. – Продолжай. Все правильно. В Швеция бумага очень тонкая, у нас плохо издают классику…
Верзила-студент чпокнул жестяной кружечкой пепси и отхлебнул из банки. На него осуждающе покосились. Он виновато втянул голову в плечи и улыбнулся мне – жарко!
Я взял с прилавка несколько своих книг и раздал шведам. С этого и надо было начинать, болван. Студенты радостно закивали, зашелестели свежие тугие страницы… Катька сделала еще более страшные глаза и, извинившись, подошла ко мне с искусственной улыбкой. Прошептала на ухо:
– Скажи, что книги они могут купить в магазине, а ты их надпишешь. Они думают, ты даришь.
– Может, ты скажешь? Они меня понимают?
– Хорошо, скажу. Говори проще, расскажи о себе.
Катька, продолжая улыбаться, вернулась к прилавку и что-то сказала по-шведски. Две книги легли обратно на стойку. Я почувствовал себя неловко. Будто я навязывал студентам покупки.
Я попытался рассказать о себе. Мика понимающе кивала. Катрин переводила. Студенты листали книги, рассматривали смешные иллюстрации Сереги Лемехова и хихикали.
Катька гордо улыбалась и одобрительно подмигивала мне. Книгу мою – я уверен – она не читала. Несколько раз звякал дверной колокольчик, и в магазин осторожно заходили новые покупатели. Катька жестом приглашала их к нашему кружку и шепотом поясняла, что происходит. Студенты и Мика на правах старожилов задавали мне вопросы. Одна девица, наиболее заморенная учебой, заглядывая в блокнотик, спросила, страдал ли я от цензуры и Ка-Гэ-Бэ. Спросила по-русски, но Катрин перевела, чтобы всем было понятно.
Стало тихо.
Врать не хотелось. Я молчал, вспоминая свою бестолковую жизнь и отдельных чудаков, с которыми сталкивался в редакциях. Как было дело, в двух словах не расскажешь. Диссидентом я не был – это уж точно. Мутило от многого, но когда умер Брежнев, я огорчился… И Горбачева принял поначалу всей душой.
Мика щелкнула пальцами, привлекая мое внимание, и демонстративно выключила диктофон. Дескать, дальше нашей компании ваши признания не разойдутся. Студенты со свирепой подозрительностью оглядели пришедших после них посетителей. Все напряглись.
Я молчал, как истукан.
– Но ваши книги появляться только при Горби… Горбачев, – ласково подсказала Мика.
– Я бы не хотел отвечать на этот сложный вопрос, – замялся я.
Публика понимающе закивала, переглядываясь. В том смысле, что автор опасается агентов КГБ даже здесь, в Швеции. Может, он и прав…
Были и еще вопросы. Кто из современных русских авторов вам больше всего нравится?
Я назвал. Тишина. Не знают таких.
– А кого вы знаете? – спросил я.
Мне назвали московскую обойму из пяти фамилий. Нет смысла ее повторять – даже не умеющий читать, слышал эти имена. Здесь считается, что это наша современная литература.
– А еще кого знаете? – допрашивал я. – Братьев Стругацких знаете? Фантастов?
Не знают…
Вот они, парадоксы единого культурного пространства! Духовные лидеры нескольких поколений русской интеллигенции – а будущие филологи-слависты о них даже не слышали.
– Виктор Конецкий?
Общее пожимание плечами.
Какого-то стебка-постмодерниста изучают, а о Конецком не слышали. О чем с этими славистами говорить… Не знают Гранина, Голявкина, Житинского, Штемлера, Валерия Попова…