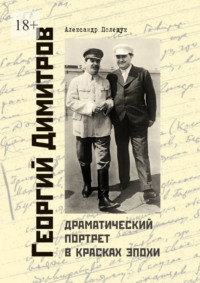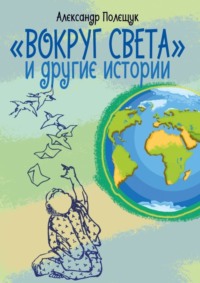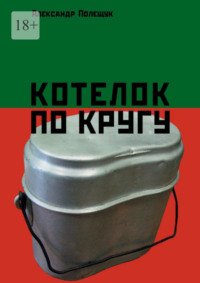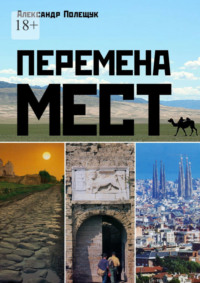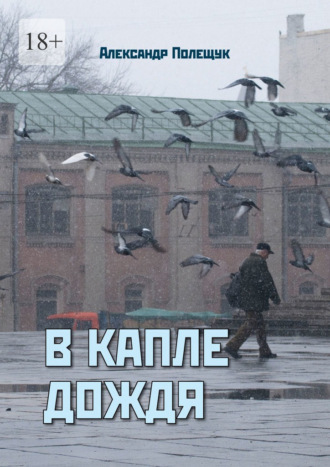
Полная версия
В капле дождя
Да… Проходит год или больше. И вот мать узнаёт: мужья тех самых девочек убились в машине. Что делает эта русская женщина? Она едет на похороны, помогает падчерицам первое время, пока те определяли детей и так далее.
Но это ещё не конец. Третий ребёнок, тот самый годовалый мальчик, блестяще заканчивает университет, женится на дочери одного областного начальника, своей сокурснице. И у них рождается ненормальный ребёнок – даун, одним словом. Эта светлая женщина снова приезжает и говорит: «Хочу уйти на пенсию, чтобы сидеть с вашим ребёнком». – «Нет, – отвечают ей. – Мы уж как-нибудь сами». Думаю, умный мальчик сообразил, что тут действуют какие-то непознанные силы. А может, устыдились и решили сами нести свой крест… Что скажете?
– История в духе древнегреческих трагедий, где боги напускают на героя, совершившего злое дело, безжалостных мстительниц – эриний. От них не уйдёшь.
– Правда? Вот видите, ещё тогда умные люди сообразили, что есть неотменимый закон воздаяния.
– Но отчего наказаны дочери смертью мужей? Это всё равно как Медея покарала за измену своего мужа Ясона, заколов детей… Равноценно ли наказание безнравственности поступка?
– Согласен, возмездие чересчур… Но тут уж что выпадет, если на тебя напустились эти самые… эринии.
Река в декабре
В начале декабря мороз, набравший было силу, неожиданно отпустил, и Москву, как часто бывает, накрыл мелкий снег. Погода не располагала к путешествиям, но мне пришлось субботним днём отправиться на дачу, чтобы сложить привезённые накануне дрова, и рассчитаться с водителем самосвала.
Всякий мой приезд на дачу сопровождается обрядом поклонения местным божествам огня, воды и леса. И на сей раз, разжёгши печку, я вышел на косогор, откуда открывается излучина Волги и лесистый мыс на другом берегу. Вода была даже на вид студёная – тёмная, расчерченная полосами нарождающегося льда. На мелководье уже стало довольно большое ледяное поле, другое образовалось в заводи, что напротив мыса. Серый, размываемый надвигающимися сумерками пейзаж оживляли только пятна ягодных кистей на рябинах и облепихах.
Ночью начался дождь. Проснувшись, я долго вслушивался в шум падающей с крыши воды. Звук был не таким, как летом, когда упругие струи с треском разбиваются о твердь земли и грубо молотят по ступеням крыльца. Нет – тоненькие ручейки падали в снег с деликатным журчаньем, словно сознавая неуместность своего появления в декабре.
Наутро, спугнув стрекочущих сорок, я снова пошёл на косогор – посмотреть Волгу. Пробитая мной вчера дорожка еле виднелась, следы оплыли, наст с хрустом проваливался под ногами. Ветер бросал в лицо пригоршни холодных капель, перемешанных с колючей крупой, в сыром воздухе метался горький дым из печной трубы.
Ледяные поля за ночь заметно подобрались, съёжились. На чистой воде между ними юлила чёрная лодка с рыбаком, ловко загребавшим то левым, то правым веслом.
Позавтракав, я принялся укладывать дрова, кучей наваленные у забора. Нижние поленья прихватило морозом, и надо было колотить по ним обухом топора, чтобы оторвать от земли. Твёрдый стук возвращался ко мне эхом. Промороженные чурбаки казались лёгкими, я тщательно выкладывал их крест-накрест по краям дровяного ряда, чтобы поленница не развалилась под собственной тяжестью, как случилось в прошлый сезон.
Из-за дождя приходилось часто менять быстро намокавшие рукавицы, и я наладил нечто вроде сушильного конвейера у печки. Я так увлёкся однообразным, но вовсе не утомительным занятием, что потерял счёт времени, и воспринимаемый мной мир сузился до пределов двора. Но однажды, выйдя на крыльцо после очередной смены рукавиц, я услышал странные ритмичные звуки со стороны реки. Они не походили ни на шум течения, ни на обычный ход волн под ветром, ни на биение о берег валов, вздымаемых теплоходом, да и какие теплоходы в декабре? Следовало бы пойти и посмотреть, что там происходит, но я почему-то медлил и в конце концов придумал для себя развлечение: разгадать происхождение странных звуков.

Я вернулся к прерванному занятию, но теперь, как писали в старых романах, весь обратился в слух и стал примерять к говору реки всевозможные названия. Плеск, журчанье, биенье, ток, колыханье, бульканье, бултыханье, клокотанье, рокот, звон, дробь, шуршанье – всё было не то. Звуки были мелодичными – прозрачными и размеренными. Пошли в ход аналогии: галька на пляже под накатом моря, деревянные брусочки ксилофона, откликающиеся на удары пружинистого шарика, монисто на шее восточной красавицы, хрустальная люстра, подрагивающая на сквозняке. Это передавало окраску звука, но при чём здесь люстра и ксилофон?
Наконец, я вынужден был сдаться и спустился к реке. Разгадка оказалась до обидного простой. Под действием дождя края ледяных полей растрескивались, крошились, ветер и течение сгоняли большие и малые осколки к берегу, и они ударялись друг о друга, отчего и возникали переливчатые звуки. Я долго вслушивался, но подходящего названия для них так и не подобрал.
Обманные дома
В середине 60-х годов я проходил студенческую практику в областной газете «Советский Сахалин». В то время на южной половине острова ещё было полно следов японского владычества: бумажные фабрики и рыбозаводы с японским оборудованием, узкоколейная железная дорога с миниатюрными вагончиками, портовая гостиница в Корсакове – некогда публичный дом…
В центре Южно-Сахалинска моё внимание привлекли здания с рустовкой из дикого камня, с мраморными панелями, гранитными наличниками, фигурными карнизами и полуколоннами. Всё говорило о вкусе и достатке прежних владельцев. Однако меня постигло разочарование. Подойдя к одному такому дому, где располагалось какое-то городское управление, я обнаружил ловкую подделку. Оказалось, что рустовка и панели, наличники и полуколонны – всего-навсего глина, крашеная штукатурка, с большим искусством имитирующая дорогой камень. Кое-где она искрошилась, обтёрлась, отслоилась от стен, состоявших из жёрдочек и дощечек, между которыми была засыпана древесная мелочь.
Местные журналисты пояснили, что хозяева приезжали сюда только летом, поэтому им не нужны были тёплые дома. А круглый год добывали уголь, рубили лес, ловили и обрабатывали рыбу, строили фабрики и причалы рабочие, переселённые на остров из захваченной японцами Кореи. У них были другие жилища.
Вспомнив сахалинские обманные дома, я подумал, что тут не обошлось без национального характера. Японец ведь вежливо улыбается, кланяется, прижав руки к бокам, уважительно пятится, а поди узнай, что у него за душой.
Полутона
Всматриваюсь в картины, проплывающие за окном электрички. Цветовая гамма среднерусского апреля небогата. Вот белые свечи берёз с пышными кронами, подёрнутыми сизым дымком, – значит, почки набухли и готовятся выбросить лист. Глубокий изумруд тяжёлых еловых лап разбавлен пятнами тускло-зелёной сосновой хвои. Жёстким космам прошлогодней травы, отдающим безжизненной белизной, вторят жёлтые метёлки камыша. Неряшливые кусты ольхи усыпаны тёмно-коричневыми, будто неживыми, столбиками и пушистыми зеленоватыми бутонами. На месте палов намечаются зелёные проплешины. И над всем этим скромным убранством – серо-голубой ситчик неба с бегущими облаками, изредка открывающими солнце…
В палитре просыпающейся русской природы нет нарядной праздничности боттичеллиевской «Весны», зато присутствует множество едва заметных оттенков, негромких сочетаний красок, меняющихся в солнечных лучах. Вспомнилось название сборника рассказов Юрия Казакова – «Голубое и зелёное». Вызов банальному контрасту и бьющей в глаза пестроте: не красное и белое, не какое-нибудь оранжевое и ультрамариновое – а скромное голубое и зелёное. Спокойствие, умиротворение, мягкость – полутона, полутона…
Сушёные насекомые
В голодной, коснеющей в тихом пьянстве Костроме конца 80-х у приезжего человека была одна радость: осматривать музеи да бродить по улицам, сохранившим следы старины.
В художественном музее меня встретили непроницаемые лики костромских помещиков XVIII века – то были работы недавно открытого художника Григория Островского, поднятые реставраторами почти из небытия. По соседству выставлены картины художника-самоучки XIX века Ефима Честнякова, которого эрудированные журналисты, конечно же, окрестили «костромским Руссо» – по укоренившейся у нас привычке поднимать значение отечественного таланта сравнением его с иностранным. Но что, скажите, общего между туповатыми французскими обывателями художника-примитивиста Анри Руссо и радостными, объединёнными совместными трудами и праздниками крестьянами Ефима Честнякова? Ровно столько же, сколько между тем же Ефимом Честняковым и притворными современными «примитивистами». Однако ведь Анри Руссо увидишь во всех альбомах, посвящённых изобразительному искусству Франции, а где у нас найдёшь альбом с работами Ефима Честнякова?
Что до достопримечательностей, то их в Костроме немало: ветшающие или перестроенные дворянские и купеческие особняки, бывшие торговые ряды (Мучные, Мелочные, Пряничные, Красные, Масляные, Квасные, Табачные…), преобразованные в угрюмые магазины с одинаковыми вывесками «Хозтовары», «Промтовары», «Канцтовары», пожарная каланча работы архитектора Фурсова, многочисленные церкви разной степени сохранности, одинокая белая беседка на речном откосе, которую удостоил вниманием знаменитый режиссёр в фильме «Жестокий романс», уникальный автомобильный мост через Волгу…
Когда идёшь в сторону городского центра по низинной, ныряющей с бугра на бугор улице, наблюдаешь странную картину: из-за крыш показывается то один, то другой фрагмент скульптуры вождя Октября, установленной на центральной площади. Если же поинтересуешься, что да как – всякий может рассказать тебе, не опасаясь в эпоху гласности чужих ушей, что прежде на высокий цоколь вознесён был молодой царь Михаил Романов, а ниже находился коленопреклонённый Иван Сусанин, осеняющий себя крестом, что верноподданническая Кострома возвела памятник в честь известных событий XVII века. В то Смутное время Руси именно в костромских лесах нашёл погибель отряд польских интервентов, а завёл опасных ляхов в глухие дебри местный крестьянин Сусанин Иван, чем способствовал спасению будущего основателя царской династии Михаила Романова, укрывшегося в местном монастыре. Композитор Глинка увековечил сей подвиг в опере «Жизнь за царя». В советское время монархическую композицию сняли, на высокий пьедестал водрузили Ленина, а оперу переименовали в «Ивана Сусанина». Так-то вот.
В ликвидированном Ипатьевском монастыре я обнаружил исторический музей, где ничто не напоминало о заслугах обители в деле спасения царя Михаила.
В той или иной вариации исторический музей имеется у нас в каждом областном городе. Там обязательно найдёшь каменные топоры, сцену охоты древних предков на мамонта, мечи, пушечные ядра, сарафаны, сани, прялки и иные наглядные свидетельства неумолимого хода времени, вплоть до изделий местных промышленных предприятий и портретов героев труда. Однако в Костромском музее меня поджидала неожиданность, и этой неожиданностью стала огромная коллекция бабочек и жуков, размещённая в особом зале. Тут были жёлтенькие капустницы и тропические бабочки с замысловатыми узорами, белёсые мотыльки и экзотические великаны с мохнатыми крыльями, кроткие божьи коровки и грозные жуки в отливающих металлом доспехах. Вряд ли у меня найдутся слова и хватит познаний, чтобы хотя бы крупными мазками нарисовать потрясающую картину творчества Природы, воплощённую в 3401 эфемерном создании – а именно столько экземпляров насчитывает собрание, достойное, пожалуй, столичного природоведческого музея.
Как же попала в Кострому такая богатая коллекция? Не иначе как вследствие реквизиции, экспроприации, или национализации, или репарации… Но я ошибся в своих предположениях: оказалось, что коллекцию насекомых (вообразите 1201 бабочку и 2200 жуков) собрал местный житель, член Костромского окружного суда Рубинский Иван Михайлович.
Уместно кратко пересказать его биографию, чтобы стало яснее, чего это ему стоило. Ведь Иван Михайлович не был ни аристократом, ни преуспевающим купцом. Он происходил из разночинцев – отец его служил почтмейстером в селе Парфеньеве. Сын сельского почтмейстера сперва окончил Костромскую гимназию, а потом Московский университет по юридическому факультету. Пока учился – зарабатывал на жизнь уроками. Когда отец Ивана Михайловича умер, остались сиротами одиннадцать детей, причём младшей исполнилось всего шесть лет. Выпускнику университета пришлось возвратиться в родные верхневолжские края. Он служил на скромных должностях – секретарём суда в Нерехте и Костроме, судебным следователем в Плёсе (там, где Исаак Левитан писал «Над вечным покоем»), наконец – членом Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду.
Мало ли у нас в России было судейских чиновников, подобных Ивану Михайловичу! Как бичевали и высмеивали племя сие русские писатели – от Гоголя до Салтыкова-Щедрина и Чехова! Нет, никогда не любили на Руси крючкотворов-законников, велеречивых и продажных распорядителей человеческих судеб: ведь судили они не по справедливости, как от века было у нас заведено, не по правде, а – по мёртвой букве закона, закон же, как известно, что дышло: куда повернул, туда и вышло.
Небось, и Иван Михайлович не тянул на героя своего времени. Наверное, не разделял новомодные социальные взгляды, был придирчив до нудности, а может быть нелюдим и скучен, углублён в себя и наверняка – по обстоятельствам жизни – скуповат. Я думаю, может, он и брал понемногу? Детишкам на молочишко (у матери вдовья пенсия – 4 рубля в месяц), а главное – требовала всё больше расходов его единственная, на всю жизнь, страсть. Представим себе, какая страсть могла завладеть уездным чиновником. Хватит пальцев руки, чтобы перечислить известные варианты: вино, карты, женщины, охота, рыбная ловля… Что ещё?..
Страсть Ивана Михайловича, выделявшая его из всего местного общества, называлась: коллекционирование бабочек и жуков. Зачем? Просто для познания красоты и изобретательности Природы, для того, чтобы и другие люди удивились и задумались, оглядев коллекцию.
Он выставлял у своего дома в Кинешме переносные садки, обтянутые металлической сеткой, где воспитывались гусеницы каких-нибудь интересных особей. В потёмках отправлялся в лес, чтобы поймать редкую ночную бабочку. Выписывал из Петербурга книги, чтобы научиться препарировать, высушивать, сохранять и систематизировать находки. Со временем местные насекомые перестали его интересовать, Иван Михайлович о них всё узнал, разместил в коробках, подписал. И расширил круг поисков. В Кинешму на имя чудаковатого судейского стали приходить посылки со странной надписью на коробке: «Сушёные насекомые»; внутри находились жуки и бабочки в стеклянных ящичках, обложенных паклей. Фирма Кёнига из Тифлиса присылала обитателей Южной России, а фирма Штандфусса из Германии приобретала для Herr Ivan Rubinski насекомых во всех странах, куда только могли проникнуть энергичные скупщики экзотической живности.
Иван Михайлович умер в 1926 году в возрасте 74-х лет. До самой смерти жил в Кинешме, где и был похоронен. В самые тяжёлые годы он сохранил своё главное состояние – коллекцию насекомых – и завещал её государству.
До 1960 года, то есть в течение 30 с лишним лет, его жуки и бабочки томились в безвестности в фондах Костромского музея. Когда отыскались дочь и сын коллекционера, музей обзавёлся его биографией и фотоснимком. Начали описывать собрание, и тут выяснилось, что Иван Михайлович в систематизации и определении насекомых допускал неточности, повторы, поскольку был любителем, а не узким специалистам по жукам и бабочкам. С этим извинением коллекцию выставили на всеобщее обозрение.
С годами, по мере химизации народного хозяйства, стали подмечать, что в коллекции есть виды, попавшие по редкости своей в Красную книгу или даже не успевшие долететь до этой Заповедной книги природы. Любителя зауважали ещё больше.
Так и удивляли бы до сих пор жуки и бабочки посетителей музея, расширяли бы научный кругозор студентов, да пришла пора возвращать Русской православной церкви принадлежавшее ей и национализированное в известное время имущество. Сперва музей потеснила монашествующая братия, но мирное сосуществование на одной территории науки и религии, как и можно было предполагать, оказалось недолгим. Русская православная церковь входила в силу, и учреждение культуры вынуждено было отступить. Костромской музей-заповедник торопливо вывели из стен исторического монастыря. Фонды, в том числе и энтомологическую коллекцию Ивана Рубинского, упаковали в ящики и развезли по свободным помещениям, не приспособленным для хранения деликатных артефактов.
На обустройство обители государство и меценаты не жалели сил и средств. В Ипатьевский монастырь потянулись паломники, туристы и православный люд – вплоть до обладателей самых высоких титулов. Историческая справедливость торжествовала.
Примечание 2024 года: Понадобилось больше десяти лет, чтобы вернуть к жизни Костромской музей. Мало-помалу его разместили в нескольких старинных зданиях. На сайте Костромского отделения Русского географического общества говорится, что «знаменитая коллекция насекомых переехала в новое выставочное пространство. В XXI веке это уже второй переезд коллекции насекомых Ивана Рубинского. Теперь она украшает стены нового корпуса музея природы в Рыбных рядах».

Феномен
Из Петрозаводска мы выехали рано утром, чтобы часам к девяти попасть в районное село П. В дороге говорили мало. Я догадывался, что каждый из нас втайне надеется стать участником громкого открытия, но из охотничьего суеверия предпочитает помалкивать, боясь «спугнуть зверя». Никто, правда, не имел представления, каков собой этот зверь и есть ли он вообще. Позвонивший накануне в Москву Виктор, мой давний знакомый, сбивчиво рассказал о костях неведомого происхождения, обнаруженных в окрестностях села каким-то учителем, и о слышанных этим же учителем странных криках, не похожих на голоса известных обитателей тамошних лесов. Телегруппа уже на месте, ждут меня.
После упразднения цензуры СМИ рассказы о таинственных существах и явлениях составляли непременную принадлежность практически всех изданий: одни приводили свидетельства их присутствия рядом с нами, другие столь же яростно высмеивали и научно опровергали эти сообщения. Читатели и зрители с удовольствием глотали то и другое, чем и пользовались редакции, чтобы поддерживать падающие тиражи. Посему я поторопился на поезд. Как знать, а вдруг действительно мы обнаружим следы существования реликтового гоминоида, в обиходе называемого «снежным человеком»?
Адрес первооткрывателя неизвестных науке костей указал нам первый же встреченный нами местный житель. Дверь открыла немолодая женщина в забрызганном водой переднике. После того как мы объяснили ей цель нашего приезда, женщина равнодушно сообщила:
– Он к нему уехал. Часа в два наведайтесь.
Ровно в два мы были у знакомой квартиры. У входа стоял забрызганный грязью велосипед. Хозяин тотчас же откликнулся на звонок. Распахнул дверь и со словами «Здравствуйте, я сейчас» метнулся к вешалке, схватил телогрейку и вязаную шапочку, потом рюкзак, набитый, судя по выпуклостям, какими-то крупными предметами, и выскочил в коридор.
Учитель был невзрачен и худ, в очках с перевязанной проволокой оглобелькой, и говорил каким-то резким, клокочущим фальцетом.
– О, вы с машиной! – по-детски обрадовался он. – Очень хорошо. Сможем до темноты осмотреть все места. Сперва поедем в карьер, вот сюда, по этой улице.
Песчаный карьер оказался километрах в двух от села. Ловко подхватив рюкзак за штопаные лямки, наш вожатый устремился к высокому крутому откосу, похожему на склон балтийской дюны.
– Опять ночью ходил! – удовлетворённо воскликнул он, бросив взгляд на осыпь. – Вот, пожалуйста, смотрите!
На влажной поверхности песка был отчётливо виден двойной ряд одинаковых крупных ямок, довольно далеко отстоящих друг от друга. Как будто кто-то огромный и мощный легко сбежал по откосу. В почтительном молчании стояли мы перед загадочными следами, пока телеоператор снимал.
Сказать и вправду было нечего. Медведь на коротких задних лапах никогда не смог бы сойти по откосу, он просто скатился бы кубарем. Лось? Что ему делать в песке, когда рядом есть нормальный спуск? Человек?.. Я вскарабкался по крутизне метров на десять и попытался сбежать вниз. От моего эксперимента осталась жалкая борозда на песке. Да, загадочка… Что ж, посмотрим дальше.
– Он иногда приходит на помойку. – Фальцет учителя звучал теперь несколько наставительно. – Тут недалеко есть большая помойка, где он имеет возможность находить пищу, которой лишён в лесу.
– Что вы все «он» да «он», – перебил я его. – Кто такой этот «он», наконец?
– А вот этого я не знаю, представьте себе, – снова заклекотал рассказчик. – Неизвестный науке феномен, вот кто. По-латыни «феномен» означает «явление», не так ли? Вот он и является иногда, обнаруживает себя, а потом исчезает… Куда, спросите вы. Этого не знаю. Я вам ещё кое-что покажу сейчас, надо только проехать вперёд по шоссейке, а потом повернуть на просёлок…
Американской машины хватило едва на полкилометра российской грунтовки, после чего Виктор счёл разумным оставить «форд» у одинокой берёзы на ровной поляне. А мы прямиком, по пахоте, двинулись к темневшему на другой стороне поля сосняку.
Учитель без устали торил дорожку. Объёмистый рюкзак закрывал всю его узкую спину. Еле дотащившись до кромки поля, мы повалились на жухлую траву. Учитель же, как ни в чём ни бывало, принялся осматривать деревья. Минут через десять крикнул:
– Идите сюда, нашёл!
Мы подошли к толстой гладкой сосне. На стволе, метрах в трёх от земли, были заметны четыре вертикальные борозды. Из них свисала кора, словно содранная стальным скребком.
– Типичный поскрёб, – объявил исследователь. – Это следы когтей. Наверное, из-за чего-то разозлился, да и деранул по сосне.
Мне стало не по себе: чёрт его знает, а вдруг он рядом? Но всё-таки надо было идти дальше. Несколько раз останавливались возле деревьев и разглядывали следы чего-то очень похожего на зубы. Если это и инсценировка, думал я на обратном пути, то весьма умелая: надо влезть на сосну, а потом с большой силой содрать чем-то толстый слой старой коры. А как объяснить следы на песке? Тоже подделка? Но зачем, зачем? Ведь учитель экскурсии сюда не водит, в газеты и на телевидение не рвётся.
Возле машины он снова угостил нас загадками. Сперва достал из рюкзака и выложил прямо на брусничник крупные овальные челюсти, треугольные лопатки, берцовые кости и другие внушительного вида фрагменты чьих-то скелетов. Мы вертели находки так и сяк, пробовали их на вес, простукивали на звук. Что ещё мы могли изобразить?
Потом нам было продемонстрировано звучание голоса таинственного обитателя здешних лесов. Учитель отошёл в сторонку, сосредоточился, поднёс ко рту сложенные наподобие рупора ладони и протяжно закричал:
– Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!.. Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!..
И снова, как недавно в сосняке, меня передёрнуло: что-то странное и тоскливое было в этом крике.
На этом экспедиция завершилась. Мы расстались с нашим новым знакомым на главной улице села. Он выскочил из машины, вскинул на спину рюкзак, боком поклонился и пробормотал «До свидания».
О карельском феномене я больше не слышал. Наверное, наш вожатый продолжает верить, что где-то бродит неприкаянное живое существо, и время от времени оглашает лес протяжным криком, похожим на зов:
– Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!.. Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!..
Двери в историю
Город Кимры Тверской области – это старинное волжское село Кимра с присоединённым к нему посёлком Савёлово и возникшими в последние десятилетия микрорайонами. По прихоти истории, плавное течение которой не раз нарушалось различными катаклизмами, Кимры не имеют общего лица. Будто три города сосуществуют здесь: крестьянско-мещанско-купеческий, советский и – отдельными вкраплениями – новорусский. Особенно заметно это в центре. Безо всякого порядка перемешаны здесь массивные бревенчатые строения с чердачными фонарями, деревянный модерн начала XX века, унылые пятиэтажные близнецы с разбитыми дверями, панельные девятиэтажки и наивно-вычурные особняки за металлическими оградами – последний писк провинциальной архитектуры.
Но есть в Кимрах кварталы, почти сплошь застроенные домами, принадлежавшими некогда крестьянскому сословию, и они-то интересны больше всего, Здешние крестьяне ведь не пахали и не сеяли, а жили сапожным ремеслом и тем знамениты были на всю страну. Рассказывают, что русская армия, преследовавшая Наполеона, ступила на парижские мостовые именно кимрским сапогом.