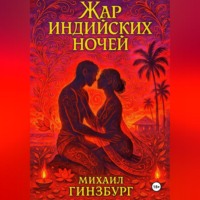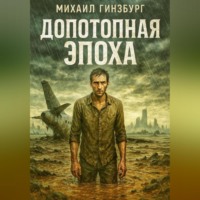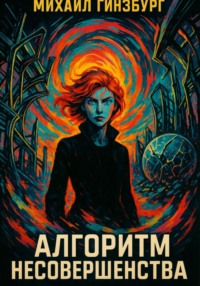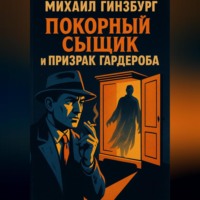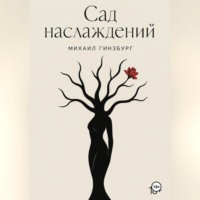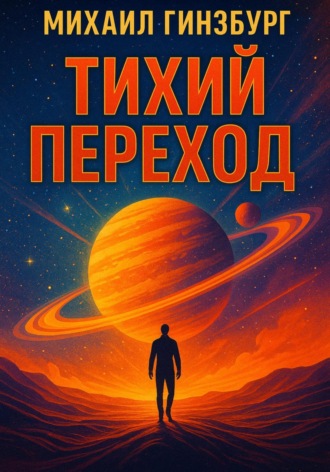
Полная версия
Тихий переход

Михаил Гинзбург
Тихий переход
Глава 1
Помню, как отец учил меня смотреть в глаза при разговоре. Мне было лет семь, наверное. Мы сидели на старой, вытертой тахте в его кабинете, пахнущем книжной пылью и трубочным табаком. "Это важно, Эви," – говорил он, и его собственная ладонь – теплая, сухая, с сетью тонких морщинок – мягко легла на мое плечо. "Так люди понимают, что ты их слушаешь, что ты здесь, с ними. Это мост". Его глаза, серо-голубые, с едва заметными смешливыми искорками в уголках, смотрели на меня прямо, без колебаний. Я помню ощущение этого взгляда – не пристального, не изучающего, а… открытого. Приглашающего к диалогу. Мост.
Эта память – почти тактильная, согретая солнцем, пробивавшимся сквозь пыльное окно отцовского кабинета – всплыла непрошено, остро и неуместно здесь, под холодным светом диодных ламп моего рабочего кабинета в Институте. Перед глазами был не отец, а экран монитора с последним отчетом Центра Когнитивных Исследований.
График номер один. Тонкая синяя линия, упрямо ползущая вверх по оси ординат. Подпись: "Расстройства аутистического спектра (РАС), диагностированные случаи на 1000 населения. Прогрессия за последние 15 лет". Линия шла круто, почти без плато.
Рядом – график номер два. Зеленая линия. Почти параллельная синей, с той же неумолимой устремленностью вверх. Подпись: "Самоидентификация с небинарными гендерными моделями и/или гомосексуальной/бисексуальной ориентацией. Опросные данные, возрастная группа 16-35 лет".
Два графика. Две линии, ползущие вверх синхронно, как альпинисты в связке. Статистика – холодная, бесстрастная, выверенная до сотых долей процента. Цифры не лгут. Но и правды всей не говорят. Они лишь констатировали факт: привычный ландшафт человеческих связей медленно оплывал, как восковая фигура под невидимым жаром.
Мир моего детства, мир отцовского урока про взгляд глаза-в-глаза, про "мост" между людьми – этот мир становился историей. Архивировался. Покрывался пылью в старых базах данных.
Я, доктор Эвелин Рид, когнитивный психолог, должна была понять – почему. Не просто описать феномен "Сдвига", каталогизировать его проявления – изменение социальных ритуалов, обеднение невербальной коммуникации, появление новых этических кодексов, основанных на логике и минимизации эмоционального контакта, переосмысление гендера и влечения. Нет. Я должна была найти причину. Источник этой "иной логики", которая перекраивала саму ткань человеческого бытия.
За окном кабинета висела ранняя майская ночь – густая, чернильная, беззвездная. Капли дождя лениво чертили косые линии на стекле. В комнате было тихо, если не считать мерного гудения системного блока и шелеста виртуальных страниц отчета на экране. Стерильный воздух пах озоном и слабым ароматом вчерашнего кофе. Идеальная обстановка для беспристрастного анализа.
Но беспристрастности не получалось. Каждый график, каждая цифра отдавались глухим эхом той детской памяти, того ощущения теплой отцовской руки на плече. Мост, о котором говорил отец, – он разрушался? Или перестраивался по совершенно новому, непонятному мне чертежу?
Я откинулась в кресле, потерла виски. Нужно было систематизировать данные наблюдений за последнюю неделю. Эксперименты с сенсорным восприятием у группы "нейро-эмергентов". Анализ их речевых конструкций. Поиск закономерностей. Но вместо этого перед глазами стояли две линии, ползущие вверх. И лицо отца.
Что связывало эти два явления – рост РАС и изменение карты сексуальности и гендера? Была ли это общая причина? Нейробиологический сдвиг? Эпигенетическое эхо? Или нечто совершенно иное, выходящее за рамки привычных нам моделей?
Вопросов было больше, чем ответов. А время шло. И с каждым днем мир за окном становился все менее похожим на тот, в котором меня учили смотреть людям в глаза.
Глава 2
Образ отца, его спокойный взгляд и слова про "мост" не отпускали. Они висели в воздухе кабинета, как послевкусие давно выпитого вина – теплое, ностальгическое и немного горькое. Эвелин отодвинула отчеты на мониторе, открыла личный файл. Старая фотография, оцифрованная с потертого бумажного снимка: она – лет десяти, щербатая улыбка, и рядом ее двоюродный брат Марк, на пару лет старше, серьезный не по годам, с копной непослушных волос. Они сидят на той самой тахте в кабинете отца. Марк тогда тоже слушал про "мост", кивал своим серьезным кивком.
Марк. Ее вечный партнер по детским играм и секретам. Тот, с кем можно было молчать часами, и это молчание было наполнено пониманием. Тот, кто всегда чувствовал ее настроение без слов. Он стал архитектором, строил здания – логичные, функциональные, но всегда с какой-то скрытой поэзией линий. Последний раз они виделись полгода назад. Он был… тише обычного? Или ей показалось?
Экран терминала мягко пиликнул, выводя уведомление о новом сообщении. Стандартный рабочий интерфейс, но отправитель – личный. Сестра Марка, Лиза. Сердце Эвелин сделало неуловимый сбой ритма. Лиза редко писала просто так.
Она открыла сообщение. Несколько коротких строк текста, набранных без единой заглавной буквы, без знаков препинания, словно на одном выдохе:
эви привет извини что беспокою но я не знаю что делать с марком он совсем ушел в себя говорит только по делу никаких эмоций вчера ходил к врачу ему поставили расстройство аутистического спектра представляешь в тридцать девять лет говорят это сейчас часто бывает какой-то поздний дебют или раньше не замечали но он совсем другой стал я его не узнаю что мне делать эви
Эвелин перечитала сообщение. Еще раз. И еще. Буквы расплывались, складываясь в слова, которые мозг отказывался принимать. Марк. Аутизм. В тридцать девять лет. "Поздний дебют". "Раньше не замечали". Холодные, клинические термины, пытающиеся описать исчезновение человека, которого она знала.
Тонкая стеклянная поверхность ее упорядоченного мира пошла сетью трещин, пока еще невидимых глазу, но ощутимых кончиками пальцев. Статистика на экране монитора – эти безжалостные синие и зеленые линии, ползущие вверх – вдруг перестала быть абстракцией. У нее появилось лицо. Лицо Марка. Серьезное, с копной непослушных волос.
Она вспомнила его смех – редкий, но такой заразительный. Его привычку подбирать на улице странные камни и видеть в них целые миры. Его неловкие, но искренние попытки утешить ее, когда умер отец. Где все это теперь? Стерто "поздним дебютом"? Или погребено под диагнозом, который Система так легко ставила миллионам?
Дождь за окном перестал быть просто фоном. Его монотонный стук по стеклу теперь звучал как отсчет времени. Времени, которое утекало, унося с собой знакомый мир, знакомых людей.
Ее исследование. "Иная Логика". Оно больше не было просто научной задачей. Оно стало личным. Отчаянной попыткой понять – не только что происходит, но и что остается от человека, когда его перекраивает этот тихий, неумолимый Сдвиг. Можно ли найти Марка – того, прежнего Марка – за стеной диагноза? Существует ли еще тот "мост", о котором говорил отец, или он окончательно рухнул, оставив после себя лишь архипелаги изолированных сознаний?
Эвелин закрыла фотографию на экране. Потом закрыла отчет со статистикой. Несколько минут она просто сидела неподвижно, глядя на темное окно, где в каплях дождя расплывались огни ночного города.
Нужно было ответить Лизе. Но что она могла ей сказать? Что ее брат – лишь еще одна точка на графике? Что его новая "логика" – предмет ее научного интереса?
Она снова открыла рабочий файл. Эксперименты с сенсорным восприятием. Лингвистический анализ. Нейросетевое моделирование. Цифры, данные, графики. Холодные инструменты познания. Но теперь она смотрела на них иначе. За каждым числом, за каждым термином она видела живых людей. Людей, чей мир менялся навсегда.
И ее собственный мир тоже уже никогда не будет прежним.
Глава 3
Сообщение Лизы висело перед глазами, как назойливое послеобра́з на сетчатке. Марк. РАС. "Поздний дебют". Слова бились о стенки черепа, отказываясь складываться в осмысленную картину. Тот Марк, которого она помнила – немногословный, но не холодный, погруженный в свои чертежи, но способный на неожиданную шутку – как он мог оказаться частью этой всепоглощающей статистики?
Научный инстинкт требовал данных, объяснений, теорий. Личные чувства – чего-то другого, возможно, опровержения. Эвелин решила обратиться к доктору Аластеру Финчу. Корифей нейробиологии, специалист по пластичности мозга, чьи последние работы о "социально-адаптивных нейронных перестройках" цитировали все – от академических журналов до правительственных бюллетеней. Его взгляд на "Сдвиг" считался прагматичным, даже несколько прохладным, но безупречно научным.
Записаться на консультацию оказалось делом пяти минут – через унифицированный интерфейс Института Нейро-Адаптации. Бездушный алгоритм предложил свободное окно через два дня. Никаких звонков секретарю, никаких личных согласований. Эффективность.
Институт Нейро-Адаптации занимал целую башню из дымчатого стекла и матового титана в новом деловом квартале. Здание, казалось, не имело окон в привычном смысле – вся его поверхность мерцала, транслируя спокойные, абстрактные паттерны меняющегося света. Автономный электромобиль доставил Эвелин прямо к входу, в вестибюль, где царили тишина и прохлада. Воздух был идеально очищен, температура – строго выверена. Никаких резких запахов, никаких громких звуков. Пол из светлого полимера поглощал шаги. Стены реагировали на приближение, меняя оттенок с нейтрально-серого на мягкий голубой, указывая путь к нужному лифту. Ощущение было такое, будто попал внутрь идеально работающего, но совершенно неживого организма. Сотрудники – люди и неотличимые от них андроиды – двигались по своим траекториям с бесшумной целеустремленностью. Никаких случайных взглядов, никаких праздных разговоров.
Кабинет доктора Финча находился на сорок втором этаже. Просторный, минималистичный. Одна стена – панорамное окно с видом на город, подернутый легкой дождевой дымкой. Другая – интерактивная панель, отображающая сложные, медленно вращающиеся модели нейронных сетей. Сам доктор Финч был под стать своему кабинету. Мужчина лет шестидесяти, с идеально седыми волосами, зачесанными назад, в строгом костюме без единой складки. Он поднялся из-за стола, лишенного каких-либо предметов, кроме тонкого планшета. Его рукопожатие было коротким и сухим. Взгляд – прямой, внимательный, но совершенно лишенный тепла.
"Доктор Рид," – произнес он. Голос ровный, модулированный. "Признателен за ваш интерес к нашей работе. Чем могу быть полезен?"
Эвелин села в предложенное кресло – оно тут же адаптировалось под ее контуры. Она постаралась говорить так же спокойно и профессионально. "Доктор Финч, моя работа связана с когнитивными аспектами 'Сдвига'. В последнее время меня особенно интересует феномен так называемого 'позднего дебюта' РАС у взрослых и его возможная корреляция с изменениями в паттернах идентичности и влечения. Ваши исследования нейропластичности…"
Она изложила суть своих вопросов, стараясь не выдать личную подоплеку, упомянув лишь "ряд недавних клинических случаев", вызвавших ее интерес.
Финч слушал внимательно, его пальцы неподвижно лежали на планшете. Когда она закончила, он помолчал секунду, глядя куда-то поверх ее головы.
"Доктор Рид," – начал он тем же ровным тоном. "Термин 'поздний дебют', как вы понимаете, является скорее медийным упрощением. Мы предпочитаем говорить об 'актуализации ранее латентных нейротипов' под влиянием изменившейся среды или внутренних биохимических процессов. Это ожидаемый этап адаптации для значительной части популяции."
"Ожидаемый?" – переспросила Эвелин, стараясь скрыть удивление. "Но резкий рост статистики…"
"Статистика отражает не столько рост самого феномена, сколько усовершенствование диагностических инструментов и изменение социальных парадигм," – мягко поправил Финч. "То, что раньше считалось эксцентричностью или социальной дезадаптацией, теперь корректно классифицируется как вариант нормы – или, скажем так, новой нормы." Он сделал паузу. "Что касается корреляции с моделями идентичности… Да, связь прослеживается. Определенные нейротипы демонстрируют большую вариативность в этих аспектах. Это тоже можно рассматривать как часть адаптивного процесса. Уход от ригидных бинарных систем – как в мышлении, так и в самоопределении – повышает общую эффективность и снижает уровень социального стресса."
Эвелин слушала, и внутри нарастал холод. Он говорил об этом так… просто. Будто речь шла об обновлении программного обеспечения. Адаптация. Эффективность. Снижение стресса. А как же личность? Память? Чувства? Марк?
"Но как же субъективный опыт? – спросила она, возможно, чуть резче, чем следовало. – Люди, переживающие эту… 'актуализацию'. Они описывают чувство потери, дезориентацию."
Финч едва заметно наклонил голову. "Субъективный опыт – важный фактор для психотерапевтической поддержки на этапе перехода. Институт разрабатывает эффективные протоколы 'гармонизации'. Но с точки зрения нейробиологии, это временные флуктуации, шум в системе на этапе калибровки. Конечная цель – стабильное, логически оптимизированное состояние."
"Оптимизированное," – повторила Эвелин эхом. Слово показалось ей уродливым.
"Именно," – подтвердил Финч. Он коснулся своего планшета. "Мы можем предоставить вам доступ к некоторым деперсонализированным базам данных по динамике нейропластичности у взрослых. Возможно, это будет полезно для ваших исследований." Он посмотрел на нее – все тот же прямой, холодный взгляд. "Но я бы рекомендовал сосредоточиться на конструктивных аспектах адаптации, а не на рудиментарных эмоциональных реакциях, которые лишь затрудняют процесс."
Это было сказано мягко, но прозвучало почти как предупреждение.
Встреча подходила к концу. Эвелин поблагодарила его, встала. Рукопожатие было таким же сухим и коротким.
Выйдя из башни Института обратно под мелкий дождь, она остановилась на тротуаре. Город жил своей новой, упорядоченной жизнью. Автомобили бесшумно скользили по выделенным линиям. Пешеходы двигались размеренно. Слова Финча – "ожидаемый этап адаптации", "оптимизированное состояние", "рудиментарные эмоциональные реакции" – эхом отдавались в голове.
Официальная наука дала свой ответ. Холодный, логичный, бесчеловечный. И этот ответ пугал ее гораздо больше, чем сама загадка "Сдвига". Потому что он означал, что мир не просто меняется. Он меняется по плану, который не оставлял места для таких, как ее отец. И для таких, каким был Марк.
Глава 4
Слова доктора Финча – "ожидаемый этап адаптации", "оптимизированное состояние" – осели в сознании Эвелин холодным, тяжелым пеплом. Она вернулась в свой кабинет в Институте, но знакомые белые стены, тихий гул оборудования, панорамный вид на город сквозь моросящий дождь – все это теперь казалось декорацией. Фасадом, за которым скрывалась тревожная пустота или, что хуже, тщательно управляемая ложь. Марк – не "оптимизация". То, что происходило с ним, с миллионами других – не просто "калибровка системы". Она чувствовала это почти физически, как чувствуют приближение грозы по изменению давления.
Она не могла это принять. Ни как ученый, ни как человек, помнящий смех своего кузена.
Рабочий день закончился, коридоры опустели, свет в большинстве кабинетов погас. Но Эвелин осталась. Ночь – лучшее время для работы, которая не должна была попасть в официальные отчеты. Она активировала защищенный протокол на своем терминале, погружаясь в глубинные слои академических архивов – туда, где хранились не только актуальные публикации, но и следы того, что было отвергнуто, отозвано, забыто.
Ее кабинет теперь казался островом в океане тишины. За окном город пульсировал неоновыми огнями, отражаясь в мокром стекле мириадами расплывчатых пятен. Слабый свет монитора выхватывал из полумрака ее лицо, сосредоточенное и напряженное, да серебристую пыль, танцующую в луче над клавиатурой. Воздух был неподвижен.
Она искала не подтверждения теории Финча, а ее опровержения. Искала упоминания о ранних исследованиях "Сдвига", которые не вписывались в гладкую картину "адаптации". Ключевые слова: "неврологическая патология", "вирусный агент", "эпигенетический сбой", "экологический триггер", "когнитивный диссонанс". Многие запросы возвращали пустые результаты или ссылки на "закрытые данные". Но иногда… иногда что-то просачивалось.
Абстракт отозванной статьи 2038 года. "Предварительный анализ атипичных белковых структур в спинномозговой жидкости у пациентов с внезапным развитием РАС-подобных симптомов". Статья была удалена из всех баз данных по причине "методологических ошибок". Автор, доктор Рамирес, исчез из академического поля вскоре после этого.
Служебная записка внутреннего пользования Института Эпидемиологии, датированная 2041 годом. Отчет о локальной вспышке "неклассифицированных когнитивно-эмоциональных нарушений" в небольшом промышленном городке N на севере. Вспышка совпала по времени с аварией на химическом комбинате. Отчет был помечен грифом "Малозначительное локальное событие. Дальнейшее расследование нецелесообразно".
Фрагмент онлайн-дискуссии на закрытом научном форуме, 2045 год. Некто под псевдонимом "Кассандра" утверждал, что обнаружил сложный математический паттерн, лежащий в основе как роста РАС, так и изменений гендерной идентичности, предполагая наличие внешнего "управляющего сигнала". Посты "Кассандры" были удалены модераторами как "лженаучные спекуляции".
Мелочи. Обрывки. Следы, заметенные под ковер официальной науки. Но они складывались в тревожную картину. Картину, где "Сдвиг" был не благостной адаптацией, а чем-то иным. Болезнью? Побочным эффектом? Или… вмешательством?
Эвелин нашла упоминание еще одного имени. Доктор Елена Петрова, био-токсиколог, чьи ранние работы связывали некоторые неврологические отклонения с промышленными загрязнителями. Она тоже исчезла с радаров примерно десять лет назад. Эвелин решилась.
Она открыла "Сеть Призраков" – анонимный, децентрализованный мессенджер, популярный среди тех, кто ценил конфиденциальность выше удобства интерфейса. Создала временный, не привязанный к личности профиль. И отправила короткое, тщательно зашифрованное сообщение на старый, вероятно, давно неактивный публичный ключ Петровой:
Д-р Петрова, интересуюсь вашими ранними работами по нейротоксинам и когнитивным эффектам. Готова обсудить конфиденциально. Коллега.
Отправить. Клик. Сообщение ушло в пустоту цифрового эфира. Шанс на ответ был минимальным. Но сам факт отправки этого сообщения ощущался как пересечение невидимой черты. Она больше не была просто наблюдателем.
Она закрыла все окна, стерла логи поиска, насколько это было возможно. Выключила терминал. Кабинет погрузился в темноту, нарушаемую лишь тусклым светом ночного города за окном.
Она стояла у окна, глядя на огни. Сколько еще таких, как она, сидят сейчас в своих кабинетах или квартирах, пытаясь найти смысл в ускользающей реальности, пытаясь расслышать правду за шумом официальных заявлений?
Ответа не было. Только тихий шепот дождя по стеклу и холодное ощущение опасной тайны, к которой она только что прикоснулась.
Глава 5
Сообщение, брошенное в безмолвный колодец "Сети Призраков", осталось без ответа. Дни шли, складываясь в недели. Ожидание ответа от доктора Петровой – или кого-то, кто мог перехватить сигнал – превратилось в низкочастотный гул тревоги на периферии сознания. Эвелин решила пока отложить этот рискованный вектор. Опасно было даже думать об этом слишком часто – ее собственные мысли могли стать самым ненадежным шифром.
Она вернулась к данным. К тому, что было здесь, перед ней, на мерцающем экране ее рабочего терминала. К загадке "Кассандры". К идее математического паттерна, объединяющего, казалось бы, несвязанные явления – рост аутизма и калейдоскопическое изменение карты человеческих влечений и идентичностей.
Ее кабинет снова стал ее убежищем и лабораторией. Поздние часы, когда Институт затихал, погружаясь в спящий режим. За окном раскинулся ночной город – упорядоченная матрица огней, прошитая бесшумными линиями электрокаров. Мир, работающий по своим новым, все более четким алгоритмам. А она искала иной алгоритм. Скрытый. Возможно, управляющий.
Она загружала массивы данных: нейросканы тысяч анонимизированных пациентов с РАС; результаты лингвистического анализа текстов из социальных сетей за последние двадцать лет; гормональные профили; социологические опросы по гендерной самоидентификации. Гигабайты информации, холодной, как свет далеких звезд.
Ее пальцы летали над сенсорной клавиатурой, запуская программы для поиска скрытых корреляций, нейросетевые анализаторы, способные уловить нелинейные зависимости. На голографическом дисплее над столом расцветали и гасли сложные визуализации – переплетающиеся сети связей, многомерные кластеры данных, похожие на странные, абстрактные скульптуры. Красота математики. Чистая, холодная, не требующая эмпатии.
Именно в этот момент, когда она пыталась настроить очередной фильтр для анализа данных по паттернам привязанности, память подбросила ей образ. Даниэль. Ее бывший. Физик-теоретик, с таким же острым умом и страстью к поиску скрытых законов Вселенной. Они сошлись на этом – на любви к элегантным формулам, к разгадыванию загадок.
«У тебя острый ум, Эвелин,» – сказал он однажды вечером, после очередного их спора о чем-то неважном, но принципиальном. Они сидели в маленьком кафе со старомодными клетчатыми скатертями, и запах корицы смешивался с запахом дождя. Его взгляд был теплым, но чуть усталым. «Но иногда анализировать – это не то же самое, что чувствовать. Ты раскладываешь все по полочкам, но упускаешь… саму вещь».
Она тогда рассердилась. Обвинила его в иррациональности. Но слова запомнились.
Эвелин тряхнула головой, отгоняя воспоминание. Оно было нерелевантным шумом. Нужно сосредоточиться на данных. Она запустила новый алгоритм, сравнивая паттерны нейронной активности, характерные для РАС (особенно в зонах, отвечающих за сенсорное восприятие и обработку социальной информации), с данными по гормональным профилям и… лингвистической сложности в письменной речи. Бред? Возможно. Но "Кассандра" намекала на нечто подобное.
Программа работала. На дисплее медленно проступала структура. Сложная. Многоуровневая. Неожиданная. Статистически значимая корреляция действительно была. Определенные маркеры нейроактивности не просто коррелировали с гормональным фоном, ассоциируемым с не-гетеронормативными влечениями, но и с использованием специфических синтаксических конструкций, с определенной фрактальной сложностью речи. Это не было похоже на случайность. Структура была слишком… элегантной. Слишком упорядоченной. Как будто кто-то написал код.
И снова память. Другой вечер. Последний. Их квартира, залитая холодным светом уличных фонарей. Пустые коробки от пиццы. Ощущение пропасти между ними.
«Я не понимаю тебя, Эви,» – сказал Даниэль тихо, глядя не на нее, а в окно. «Совсем. Это как будто мы говорим на разных языках. Ты слышишь слова, ты анализируешь синтаксис, но ты не слышишь музыку. А я… я больше не могу без музыки».
Он ушел на рассвете. Музыка. Синтаксис. Эвелин смотрела на сложный, ветвящийся узор на голографическом дисплее. Паттерн, связывающий мозг, влечение и язык. Это был синтаксис. Невероятно сложный, возможно, искусственный. Но где же была музыка? Может быть, эта "иная логика" и была синтаксисом без музыки? Алгоритмом, переписывающим не только нейронные связи, но и саму суть человеческой близости, ту самую, которую она не смогла или не захотела понять с Даниэлем?
Холодок пробежал по спине. Открытие было захватывающим. И абсолютно жутким. Если это код, то кто программист?
Она сохранила результаты под невинным названием "Корреляционный анализ_v7_temp" в самом дальнем уголке зашифрованного диска. Выключила голограмму. Паттерн исчез, но продолжал стоять перед глазами.
Дождь прекратился. Город за окном сверкал мириадами огней – холодная, логичная, оптимизированная красота. Эвелин подошла к окну. Она нашла часть кода. Но понимание того, что он означает, было еще впереди. И оно пугало ее больше, чем неизвестность.
Глава 6
Открытие сложного, почти неестественно элегантного паттерна, связывающего нейрологию, влечение и язык, не принесло облегчения. Напротив, оно оставило Эвелин с чувством глубокой тревоги и еще большей изоляции. Официальная наука в лице доктора Финча предлагала удобное объяснение – "адаптация", "оптимизация". Но этот найденный ею "код" казался чем-то иным. Не результатом слепой эволюции, а… замыслом. Чьим?
Мысль о "Кассандре" – анониме с закрытого научного форума – не давала покоя. Кто-то еще видел этот паттерн. Кто-то пытался об этом говорить, но его голос был заглушен как "лженаучная спекуляция". Найти этого человека стало для Эвелин необходимостью. Не только ради подтверждения своих догадок или получения новой информации. Но и чтобы не чувствовать себя совершенно одной в этом холодном, рациональном мире, где сама реальность, казалось, давала трещину.