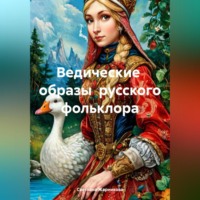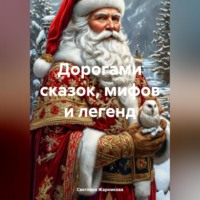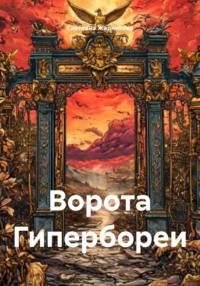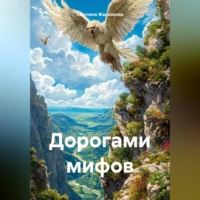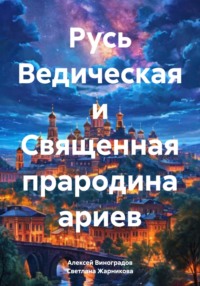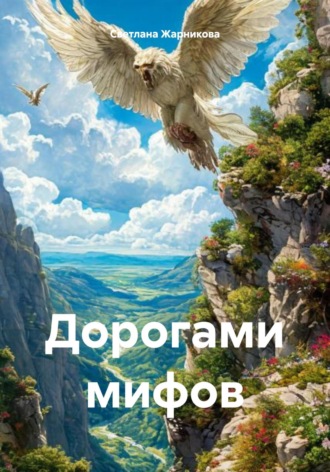
Полная версия
Дорогами мифов
Горностай, зверь семейства куньих. Летом мех буровато-рыжий, зимой снежно-белый, кончик хвоста чёрный в течение всего года. Длина тела самца около двадцати пяти сантиметров, длина хвоста до десяти сантиметров. Широко распространён в Европе, от Пиринеев, Альп, Ирландии и далее по всей Европе, за исключением большей части Югославии, а также Албании, Греции, Болгарии и Турции (на Балканах и в Малой Азии горностая нет). В Азии горностаи обитают в Афганистане, Монголии, в северо-восточном Китае, Северной Японии и в на севере Корейского полуострова. Наконец, горностаи водятся в Гренландии и распространены почти до самого юга Северной Америки. Встречается почти на всей территории СССР – от побережья Северного Ледовитого океана до низовьев Дона и Волги и к северу от Аральского моря. В Крыму горностай отсутствует, но изолированно живет на Кавказе, а на востоке известен вплоть до Камчатки и Сахалина.
Обитает чаще всего в долинах рек, близ озёр, тростниковых зарослей, но встречается и в лесах, перелесках, горных россыпях и на полях. Добычей обычно служат мышевидные грызуны и мелкие птицы. Объект промысла.
В Передней Азии горностай не живет и не является древним эндемиком этих районов.
Выдра. Иванов и Гамкрелидзе отмечают, что: «значение конкретного животного «выдры» для данной лексемы засвидетельствовано в кафирском, вайгали – «вакак-ок», авестийском – «удра» , осетинском – «вирд», русском – выдра, литовском – «юдра», прусском – «удро». В древнеиндийском – «удра» – водяное животное.
Выдра ли порешня, хищное млекопитающее семейства куньих; ценный пушной зверь. Весит до десяти киллограммг. Туловище гибкое, мускулистое, длина свыше семидесяти сантиметров.; хвост около полуметра, утончающийся к концу; лапы короткие, пальцы соединены перепонками. Обыкновенная выдра встречается в Европе, Азии (кроме Аравийского полуострова и Крайнего Севера) и Северо-Западной Африке; в СССР отсутствует лишь на Крайнем Севере, в Крыму и в пустынях.
Кроме того, «ещё три вида выдр обитают в Старом Свете: пестрошеяя выдра – в Африке, к югу от Сахары, суматринская выдра – в Индокитае и на Малайском архипелаге, индийская выдра – в Южной и Юго-Восточной Азии».
Выдра быстро плавает и очень хорошо ныряет. Мех не смачивается водой и удерживает воздух. Основной корм – рыбы и лягушки; иногда ловит утят и водяных полёвок. Нору, вход в которую иногда бывает, скрыт под водой, устраивает под нависшими берегами.
В описании Олонецкой губернии отмечено, что здесь: «важнейшие представители мира четвероногих: бурый медведь, волк, лисица, язвец (барсук), росомаха, куница, горностай, ласка, норка, выдра, рысь, белка, заяц, северный олень, лось. Бобр, водившийся в семнадцатом столетии, ныне исчез совершенно».
Бобр, млекопитающее отряда грызунов. Бобр хорошо приспособлен к полуводному образу жизни. Длина тела до метра, хвоста – до тридцати сантиметров; весит до тридцати килограмм. Хвост уплощён сверху вниз, почти лишён волос, покрыт крупными роговыми щитками. Пальцы на задних конечностях соединены широкой плавательной перепонкой. Обладает ценным мехом, который состоит из блестящих грубых остевых волос и очень густой шелковистой подпуши. Окраска от светло-каштановой до темно-бурой, иногда чёрная. Бобр был распространён на большей части Европы, Южной Сибири и части Средней Азии, а также почти по всей Северной Америке. По поймам рек они шли к северу через всю таежную зону до лесотундры, а к югу – через степную зону до полупустынь.
В результате хищнического промысла сохранились только отдельные поселения в Европе и Азии. У нас в стране (в начале двадцатого века) бобры обитали лишь в немногих местах: в Белоруссии (на Соже, Берёзине, Припяти), на Украине (в бассейнах Припяти, Тетерева). в областях Смоленской (Соже) и Воронежской (в бассейне ВоронежА), а также в Зауралье (на Конде, Сосьве, Пелыме). За пределами России бобры сохранились во Франции (в низовьях Роны), в Германии (бассейн Эльбы), в Польше (на Висле), в Норвегии, а также в Северной и Западной Монголии (по Урунгу и Билгену, в бассейне Черного Иртыша), в провинции Синьцзян в Китае. В Канаде.
Благодаря охране и реакклиматизации поголовье увеличивается. Бобр встречается в большинстве областей Европейской части СССР и в некоторых районах Сибири. Живёт по тихим лесным рекам, с берегами, поросшими ивой, осиной, берёзой, тополем, побегами и корой которых бобр питается большую часть года. Летом ест траву. Способен срезать толстые деревья. Селится в земляных норах, а также в «хатках» – кучах ветвей, ила и земли (высотой до трёх метров и двенадцати метров в основании) с несколькими внутренними камерами и подводными входами. На мелких реках устраивают плотины и прорывают каналы для сплава веток и обрубков поваленных ими деревьев. Ценится за красивый, тёплый и очень прочный мех.
«Бобры поселяются по берегам медленно текущих лесных рек, стариц и озёр, избегая широких и быстротекущих, а также промерзающих до дна водоемов. Важно наличие у водоема пойменной древесно-кустарниковой растительности из мягких лиственных пород (ивы, тополя, осины), а также обилие водной и прибрежной травянистой растительности, составляющей рацион бобра». Так как такие ландшафтные характеристики не были характерны для Передней Азии и в древности, то, судя по всему, она не входила в ареал расселения бобра.
Иванов и Гамкрелидзе считают, говоря о культовой роли бобра в некоторых индоевропейских традициях, что: «Эти особенности балтийской, славянской и авестийской традиций, не находящие параллелей в других индоевропейских традициях, подтверждают в культурно-историческом плане вторичность приобретения особой значимости этими видами животных, очевидно в силу изменения экологических условий обитания носителей определенных индоевропейских диалектов».
Объяснить эту ситуацию, таким образом, вряд ли возможно. Если следовать гипотезе переднеазиатской индоевропейской прародины, то для балтов и славян все вполне логично. Действительно, уйдя из своей предполагаемой «переднеазиатской прародины» на территорию Восточной Европы, эти народы могли в новых экологических условиях сделать новое для себя животное – бобра священным. Но абсолютно не ясно, каким образом бобер мог стать священным животным также и в авестийской традиции. Ведь согласно концепции. Гамкрелидзе и Иванова древние иранцы авестийского периода никуда севернее Ирана не перемещались. На просторах Восточной Европы, исходя из этой концепции, иранские народы (скифы, сарматы) появились когда основной ритуально-мифологический блок, «Авесты» уже давно сложился.
Каким же образом в доскифском памятнике древних иранцев «Авесте» бобр стал священным животным величайшей древнейшей богини арьев Ардвисуры – Анахиты, символизирующей плодородие и изначальную водную стихию. Причем, в «Ардвисур-яште» Анахита описывается благословляющей предков арьев Яму и Парадата, одетой в шубу из шкур трехсот бобриных самок, убитых, только после того, как они принесли определенное количество детенышей. Согласно авестийской традиции самцов, обладающих «бобровой струей», стимулирующей потенцию мужчин, убивать категорически запрещалось, так как это могло привести к вырождению рода арьев.
«Авеста» утверждает, что; «человек, убивший бобра, становится преступником и может быть подвержен мужскому бессилию». Возникает естественный вопрос – откуда в древнейшем индоиранском культовом памятнике такое прекрасное знание биологии животного, поклонение которому оказалось в ритуальной практике инновацией? Вновь подчеркиваем тот факт, что именно в славянской, балтийской и авестийской традиции бобр играет важную культовую роль.
Гиршман считает, что: «сведения Авесты, касающиеся Анахиты, относятся к тому времени, когда восточные иранцы находились к северу и даже к северо-западу от Каспийского моря, когда они хорошо знали фауну Волги. Упоминание о Волге, ставшее чем-то вроде мифической традиции, стоит в ряду самых древних воспоминаний индоариев и иранцев, как в Авесте, так и в Ригведе. Эти места текстов позволяют допустить, что и те и другие пришли в Иран из Юго-Восточной Европы или, вернее, с территории юга современной России». Французский исследователь связывает ареал бобра с Поволжьем, а Ардвисуру-Анахиту с авестийской рекой Ра, Рта или Раха, или Волгой. Но в эпоху индоевропейской древности огромное количество бобров обитало и в бассейне другой великой Восточно-Европейской реки – Северной Двины (интересно, что термин Ар-дви-сура-анахита буквально значит «вода двойная, могучая, непорочная»).
Сафронов отмечает, что: «ареал бобра в раннеисторическое время охватывал лесную зону северного полушария. Бобры достигали наибольшей численности в зоне широколиственных лесов, проникая вместе с пойменными лесами далеко в зону полупустыни, степи и лесотундры».
Но мы уже отмечали ранее, что в эпоху мезолита зона широколиственных лесов доходит до шестидесятого градуса северной широты и во время климатического оптимума голоцена, её граница располагается севернее современной на шестьсот километров. Сафронов пишет, что: «на юг бобры могли спускаться по поймам лесов больших рек, однако на стоянках неолита – ранней бронзы – костей бобра нам не известно; в Скифское время они обнаруживаются в памятниках степной зоны: Никольское (Днепропетровская область) и Новогеоргиевка (Кировоградская область) поселения, а также Тырнавское городище в Саратовской области, городище Бисовское (Сумская область)».
Отсутствие на стоянках неолита – ранней бронзы юга Восточной Европы костей бобра, естественно не свидетельствует как о наличии у жителей данных территорий древнего и ярко выраженного культа этого животного, так и о значительном количестве бобров в местных лесах.
Обратимся к археологическим материалам восточноевропейского Севера. Так Ошибкина отмечает, что уже на мезолитической стоянке Нижнее Веретье (бассейн озера Лаче), датирующейся седьмым тысячелетием до нашей эры обнаружены кости лося, северного оленя, бобра, куньих, медведя, волка, собаки. «Второе по значению место занимает бобр», – пишет она. Кости бобра найдены также на мезолитических стоянках Погостище (на левом берегу реки Модлоны, недалеко от впадения в озеро Воже), Ягорбская (в центре Череповца, у впадения реки Ягорбы в реку Шексну). Исключительный интерес представляет также материал мезолитического могильника Попово (берег озера Лаче, Каргопольский район), относящегося к седьмому тысячелетию до нашей эры. Здесь выявлены остатки тризны (в заполнении могильных ям много мелких углей), стойкая традиция посыпания покойников красной охрой и стабильный набор сопровождающих умерших жертвенных животных – лось, бобр, собака, водоплавающая птица. Ошибкина отмечает, что на этих территориях: «Уже в мезолите в случае смерти сородича было принято устраивать что-то вроде поминального пиршества, для чего убивали лосей, бобров и собак».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.