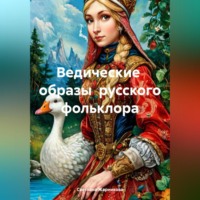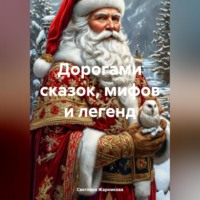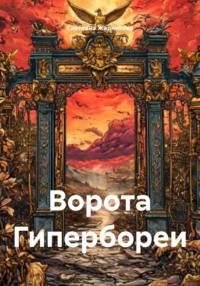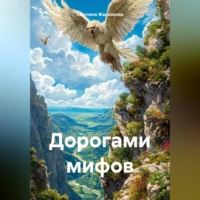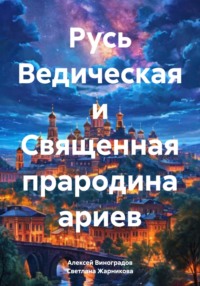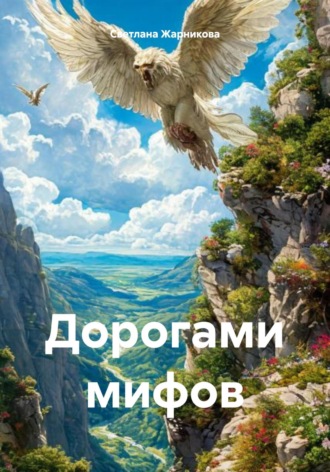
Полная версия
Дорогами мифов

Светлана Жарникова
Дорогами мифов
Светлана Васильевна Жарникова
Известный нумизмат, историк, краевед Александр Владимирович Быков писал: имя Светланы Васильевны Жарниковой хорошо известно специалистам по археологии, этнографии, фольклору и истории русского Севера. Именно в этих областях лежат интересы исследователя. Она одной из первых обратила внимание на забытые в эпоху социализма труды целой плеяды исследователей конца девятнадцатого – начала двадцатого века, анализировавших этнические истоки славянских народов и крамольную в те времена теорию об индоарийской общности, и всецело приняла её. Искусствовед по образованию, Светлана Васильевна начала свой вклад в науку с описания памятников народной культуры из собрания Вологодского музея-заповедника и других музеев вологодского края. Итогом её работы стали научные картотеки и в дальнейшем – интересные статьи, посвященные различным памятникам народного искусства.
В эпоху засилья этнографического официоза публикация её статей была делом чрезвычайной трудности. Работы Жарниковой не хотели признавать, над её выводами пытались подсмеиваться. Шельмование ученого продолжалось несколько лет. Уже, будучи автором ряда фундаментальных статей и фактически ведущим специалистом по этнографии среди вологодских исследователей, она продолжала числиться младшим научным сотрудником Вологодского краеведческого музея. В тысяча девятьсот восемдесят восьмом году Светлана Васильевна с блеском защищает диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук в Институте этнологии под руководством доктора исторических наук Натальи Романовны Гусевой. Она пробует себя на административной, преподавательской работе. Но настоящее призвание Светланае Васильевне Жарниковой принесли исследовательские труды. Она широко применяет комплексный подход к изучению проблемы, неуклонно расширяя круг источников, используя для доказательства нетрадиционные материалы из самых разных исторических дисциплин.
Сейчас Светлана Васильевна входит в число наиболее известных российских специалистов по истории и культуре русского Севера. Она – автор множества научных статей, опубликованных в таких изданиях, как «Советская этнография», «Этнографическое обозрение», «Информационный бюллетень ЮНЕСКО». Гипотеза о прародине индоарийских народов на европейском Севере является ныне одной из самых продуктивных в этой области. Её вклад в разработку этого вопроса весьма значителен.
Ферапонтовская Мадонна
Ферапонтово! Удивительный уголок далекого Русского Севера. Покой и гармония наполняют здесь душу человека и кажется, что время не властно над этими холмами, озёрами, лесами и лугами. Все здесь дышит удивительной чистотой, и поют свою потаенную тихую песнь вода, земля и небо. Эта песнь сопровождает путников, идущих по дороге к монастырю, вот уже шестьсот лет возвышающемуся на холме между двух озёр, она звучит на ступенях храма Рождества Богородицы и мощным хоралом поднимается ввысь в сиянии красок великого Дионисия.
Здесь, в соборе, в удивительном голубом, розовом и золотом сиянии словно оживают дивные строки Франческо Петрарки:
О всеблагая, благословенная,
Лествица чудная, к небу ведущая!
С неба ко мне преклони свои очи!
Воду живую, в вечность текущую,
Ты нам дала, голубица смиренная,
Ты солнце правды во мрак нашей ночи
Вновь возвела, мать, невеста и дочерь,
Дева всеславная, Миродержавная.
И таиница божьих советов!
Проведи ты меня сквозь земные туманы
В горние страны,
В отчизну светов!
(«Хвалы и моления Пресвятой Деве»)
Почему именно строки Петрарки, а не стихи Акафиста? Возможно, потому, что слишком близки друг другу по духу, по восприятию образа Богоматери гениальный итальянский поэт четырнадцатого века и не менее гениальный русский живописец, родившийся и творивший столетие спустя. И ещё потому, что слишком напоены солнцем и светом, слишком ренессансны эти стройные, изящные фигуры, нанесенные на стены северного храма великим мастером, спевшим здесь свою лебединую песню. Да и изображения храмов и других строений, хотя до предела стилизованных, больше напоминают итальянские соборы и палаццо, нежели традиционные русские соборы и церкви.
Но, может быть, всё это вполне закономерно и ничего странного в подобных ассоциациях нет? Вспомним время, в которое жил и творил Дионисий, называемые современниками «мудрым и прославленным больше всех» и «началохудожником» (то есть художником от Бога).
Это было время, когда набирала мощь деспотия Ивана Третьего – «Великого Князя и Царя Всея Руси»; время религиозных смут, когда «все сомневались и о вере пытали»; время грандиозного каменного строительства в Москве, для которого Иван Третий с удивительным постоянством приглашает только итальянских архитекторов.
И они ехали в Москву: Аристотель Фиораванти – архитектор и инженер – приехал в тысяча четыреста семдесят пятом году; Пьетро Антонио Солари (Петр Фрязин) – архитектор и скульптор – в тысяча четыреста девяностом году; Алоизио ди Каркано (Алевиз Фрязин Миланец) – архитектор – в тысяча четыреста девяносто четвёртом году; Алевиз Фрязин-Новый – архитектор – в тысяча пятьсот четвёртом году; Бон Фрязин – архитектор – в тысяча пятьсот пятом году. Каждый из них внес свой вклад в строительство Московского Кремля.
Алоизио ди Каркано строил три нижних этажа достроенного позднее Терёмного дворца, стены и башни Кремля вдоль реки Негпинной, плотину и мост на этой реке, ров вдоль стен Кремля со стороны Красной площади. Вместе с Пьетро Антонио Солари он строит знаменитую Грановитую палату. Алевиз Фрязин Новый создает усыпальницу Великих Князей – Архангельский собор и, как свидетельствует летопись, строит ещё одинадцать церквей. Бон Фрязин возводит колокольню Ивана Великого.
Но самым первым из приглашенных на Русь итальянских архитекторов был Аристотель Фиораванти. Именно ему Иван Третий поручает проектирование и строительство предназначенного для пышных дворцовых церемоний Успенского собора.
Надо думать, что приглашение Аристотеля Фиораванти было не случайным. Не стоит забывать, что Иван Третий был одним из богатейших и могущественных государей Европы, а «железного занавеса», отделяющего Русское государство от других европейских стран, тогда не было. Международные связи и пятьсот лет назад были достаточно интенсивны, а слава итальянских художников и архитекторов огромна.
Ведь время Дионисия – это пора Высокого Возрождения в Италии. Это время, когда творили такие выдающиеся и такие разные художники, как Сандро Ботичелли и Андрея Мантенья, Филиппиио Липли и Леонардо да Винчи, Пьеро делла Франческа и Антонелло да Месима. Этот перечень можно продолжать ещё очень долго. Именно во второй половине пятнадцатого века и именно в Италии рождается великая и оптимистическая утопия Возрождения, гласящая, что человек всесилен и велик. Эта идея была четко выражена в трактате «О достоинстве и великолепии человека» Джаноццо Манетти и в «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола.
Отсвет идей Высокого Возрождения озарял тогда всю Европу, а Русь была не за семью морями. И когда Иван Третий приглашал итальянского архитектора и инженера, знаменитого Аристотеля Фиораванти, строить главный храм своей столицы, он твердо знал что храм будет построен в срок, что он будет похож на Владимирский Успенский собор и что расписывать этот храм будет лучший из русских художников – «мудрый и прославленный больше всех», «художник от бora» – Дионисий. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы понять, что архитектор и художник должны были познакомиться ещё процессе строительства храма, ведь их творческий союз был предрешен волей «государя всея Руси», и самим статусом этих великих мастеров. Храм был построен и расписан, став жемчужиной русской архитектуры пятнадцатого века и украшением ансамбля Московского Кремля.
Но после этой грандиозной работы о Дионисии словно забыли. Его имя и его работы не упоминаются на протяжении конца восьмидесятых и в девяностые годы. Об Аристотеле Фиораванти летописи сообщают, что в качестве военного инженера и начальника артиллерии он участвовал в походах Ивана Третьего на Новгород, на Казань и на Тверь. С тысяча четыреста восемьдесят шестого года его имя также исчезает из русских государственных бумаг и летописей.
Итак, судя по всему, с конца восьмидесятых годов оба – и архитектор, и художник – в Москве не работают. Но тогда где, же они?
И почему именно после исчезновения из поля зрения летописей Дионисия и Аристотеля Фиораванти вдруг в девяностые годы пятнадцатого века начинается самое настоящее паломничество итальянских архитекторов на Русь? Что это, случайность или закономерность? Ведь кто-то же вел в Италии отбор мастеров, кто-то их приглашал в Москву и давал им гарантии.
И здесь, думается, ответ кроется в самом статусе «мудрого и прославленного больше всех» Дионисия. Надо просто представить себе личность Ивана Третьего, этого жесткого и самолюбивого государя, человека, который, утверждая свою власть огнем и мечом, сокрушил блестящее и богатое Тверское княжество, утопил в крови Новгородскую республику. Его самолюбие требовало утверждения во всех сферах, и искусство не составляло исключения.
Конечно, он мог послать своего самого лучшего, самого прославленного художника на родину всех искусств, в Италию, «людей посмотреть и себя показать». Тем более что такая практика существовала в Европе.
Если всё было так, как мы предполагаем, то в Италии Дионисий должен был окунуться в совершенно новую для него атмосферу восхищения человеком. Он мог читать трактат Леонардо Бруни, утверждавшего, что разум человека сопричастен божественному разуму и является световой субстанцией, a сам человек, «следствие этого, является как бы «смертным богом». Он мог любоваться фресками Фра Анджелико и Мазаччо, восхищаться образами Сандро Ботичелли и Пьеро делла Франческа, изучать работы Андреа Мантеньи и Леонардо да Винчи, штудировать обнаженную натуру как Лука Синьорелли. И, наконец, он мог видеть фрески первого мастера Ренессанса, гениального живописца рубежа тринадцатого – четырнадцатого веков Джотто на тему жизни Богоматери.
Подобный вывод напрашивается при сравнении падуанских фресок Джотто и росписей Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Именно, в Италии во второй половине пятнадцатого века с широким распространением идей неоплатоников, свет в интерьерах храмов, использовался как таковой, в его нематериальной сущности. Именно здесь можно было встретить его образное воплощение в виде сияющего голубого фона фресок и алтарных композиций. Все эти приемы были использованы Дионисием впоследствии в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтове. Но, восприняв и прочувствовав высочайшую живописную культуру Ренессанса, Дионисий остался верен тем канонам, по которым творили его соотечественники, по которым работал он сам. Сложное, абстрагированное, глубоко философичное искусство русской иконописи и фрески давало ему огромные возможности для совершенствования своего искусства. Знакомство с творчеством величайших гениев Возрождения отшлифовывало почерк художника и обогатило его палитру. Он поднялся на новую ступень. А потом он вернулся домой в Москву.
Здесь же за время его отсутствия многое изменилось. «Сомневающихся и пытающих о вере» осталось немного: одних сослали на Север, других казнили как еретиков. Свободомыслие и тирания власти – две вещи несовместные. Незыблемость принятых церковью установок отстаивалась теперь всеми доступными государству средствами. Опасность, которую таили в себе ренессансный гуманизм и искусство, отвергавшие режим подавления человеческой личности и непросвещённой деспотической власти, государственные институты Руси начала шестнадцатого века осознавали достаточно ясно. И отсюда в Москву устремились многие из тех, кому идеи гуманистов Возрождения казались «отвратительными» и «безбожными». Именно в Москву, после пострига на Афоне, приехал знаменитый Михаил Триволис. некогда входивший в круг друзей и приближенных Пико делла Мирандола. Став на Руси Максимом Греком, он обрушился с гневными проклятиями на «языческое нечестие» итальянских гуманистов и нашел при дворе великого Князя полную поддержку.
Ну а Дионисий? Дионисий сказал – нет! Нет – мракобесию, нет – попранию человеческого достоинства, нет – невежеству! Он был уже стар, мудр, он знал, что есть истинные, а что мнимые ценности в этом мире и не собирался отказываться от своих идеалов. Он предпочел быть свободным и удалился с сыновьями на Север, в вологодские леса. И здесь за два лета тысча пятьсот второго – тысяча пятьсот третьего годов создал он свой шедевр – свою Ферапонтовскую Мадонну. Гимном свету, добру, жизни звучат и по сей день эти росписи. Гимном женщине – матери, невесте, дочери! Той, что проводит «сквозь земные туманы в Горние страны, в Отчизну Светов». Образом светозарной горней страны, где сияет вечный день, где воздух напоён теплом, где нет страдания и венец божьего творения – Человек – раскрывается во всей своей красе и мощи, где женщина – Держательница Мира – несет в чаше «живую воду в вечность текущую». И сегодня предстают перед нами фрески гениального русского художника, возвестившего на Руси гуманистическую идею Ренессанса.
Проблемы локализации прародины индоевропейцев.
Проблема локализации прародины индоевропейских народов стоит перед наукой достаточно давно. Решающим для зарождения индоевропеистики было открытие санскрита, знакомство с первыми текстами на нем и начавшееся увлечение древнеиндийской культурой, наиболее ярким отражением чего была книга Фон Шлегедя «О языке и мудрости индийцев. Фон Шлегель, первым высказавший мысль о единой прародине всех индоевропейцев, поместил эту прародину на территории Индостана. Однако вскоре была доказана ошибочность этого предположения.
Необходимо отметить, что советская историческая школа до начала тридцатых годов двадцатого века исходила из определения прародины индоевропейцев основанных на трудах Шахматова и Нидерле.
Прародина индоевропейцев на основании естественно-географических факторов помещалась ими в Моравию и Силезию.
При этом прародину восточных индоевропейцев (славян, албанцев, лето-литовцев, армян, индо-иранцев) размещали в Московской и Тверской области, в верховьях Днепра.
Балтов в Минской и Витебской областях.
Прародина самих славян размещалась от Пруссии до Пскова, по берегам Немана, Двины и Рижского залива.
Предполагалось, что позже восточные индоевропейцы отошли по Днепру на юг, в Причерноморье, где сформировались арийцы -индоиранцы, которые затем ушли с Дона в Иран и Индию. Славяне перешли в Польшу и далее на Балканы, Карпаты и Украину.
Подобные научные гипотезы массово тиражировались тогда в частности в выпушенном Госиздатом в тысяча девятьсот двадцать восьмом году «Русском историческом атласе» Кудряшова. Несмотря на принципиально разные научные взгляды, эту работу поддержали и одобрили академики Покровский, Платонов, Вознесенский, Греков, Державин, Оксман, Преображенский, Пресняков, Сербина, Шебалов.
Но затем, после победы большевиков, в тысяча девятьсот двадцать девятом году, сама «русская история» была признана контрреволюционной, а в тысяча девятьсот тридцать втором –тридцать шестом годах теория прародины была объявлена коммунистическими идеологами – не большевистской, фашисткой и антинаучной.
Среди гипотез, сформулированных в последние годы хотелось бы наиболее подробно остановиться на двух: Сафронова, предложившего в своей монографии «Индоевропейские прародины» концепцию трех прародин индоевропейцев – в Малой Азии, на Балканах и в Центральной Европе (Западная Словакия), и Гамкрелидзе и Иванова, которым принадлежит мысль о Переднеазиатской (точнее, находящейся на территории Армянского нагорья и примыкающих к нему районов Передней Азии) прародине индоевропейцев, обстоятельно изложенная и аргументированная ими в фундаментальном двухтомнике «Индоевропейский язык и индоевропейцы».
Сафронов подчеркивает, что на основании раннеиндоевропейской лексики можно сделать вывод, что «раннеиндоевропейское общество жило в холодных местностях, может быть в предгорьях, в которых не было больших рек, но речушки, протоки, родники; реки, несмотря на быстрое течение, не были препятствием; переправлялись через них на лодках. Зимой эти реки замерзали, а весной разливались. Были и болота. Климат раннеиндоевропейской прародины, вероятно, был резко континентальный с суровой и холодной зимой, когда перемерзали реки, дули сильные ветры; бурной весной с грозами, сильными таянием снегов, разлитием рек, жарким засушливым летом, когда пересыхали травы, не хватало воды».
У ранних индоевропейцев существовали ранние фазы земледелия и скотоводства, хотя не потеряли значения охота, собирательство и рыболовство. Среди прирученных животных – бык, корова, овца, коза, свинья, лошадь и собака, которая охраняла стада. Сафронов отмечает, что: «Езда верхом практиковалась ранними индоевропейцами: какие объезжались животные, не ясно, но цели очевидные: приручение». Земледелие было представлено мотыжной и подчечно-огневой формой, обработка продуктов земледелия производилась измельчением зерен.
Ранние индоевропейские племена жили оседло, у них были разные типы каменных и кремневых орудий, ножи, жилья, скребки, топоры, тесла и др. Они обменивались и торговали. В раннеиндоевропейской общности имело место различие родов, учет степени родства, противопоставление своих и чужих. Роль женщины была очень высока. Особое внимание обращалось на «процесс генерации потомства», что выражалось в ряде корневых слов, перешедших в раннеиндоевропейский язык из бореального праязыка.
В раннеиндоевропейском обществе выделилась парная семья, управление осуществлялось вождями, существовала оборонительная организация. Существовал культ плодородия, связанный с зооморфными культами, был развитый погребальный обряд.
Из всего вышеизложенного Сафронов делает вывод, что прародина ранних индоевропейцев находилась в Малой Азии. Он отмечает, что такое предположение единственно возможно, поскольку «Центральная Европа, включая Карпатский бассейн, была занята ледником».
Однако данные палеоклиматологии свидетельствуют о другом. В то время, о котором идет речь, в период заключительной стадии валдайского оледенения (одинадцать тысяч лет назад) характер растительного покрова Европы, хотя и отличался от современного, но в Центральной Европе были распространены арктические тундры с берёзово-еловым редколесьем, низкогорные тундры и альпийские луга, а не ледник. Редколесье с берёзово-сосновым древостоем занимало большую часть Средней Европы, а на Большой Среднедунайской низменности и в южной части Русской равнины преобладала растительность степного типа. Палеогеографы отмечают, что на юге Европы влияние покровного оледенения пойти не ощущалось, тем более это касается Балкан и Малой Азии, где влияние ледника не ощущалось вообще. Время к которому относится культура малоазиатского Чатал Гаюка, связываемая Сафоновым с ранними индоевропейцами, отмечено потеплением голоцена.
Тем более маловероятно наличие холодного климата в Малой Азии. Здесь хотелось бы обратиться к выводам Льва Берга и Лисициной, сделанным в разное время, но, тем не менее, не опровергающим друг друга. Так Лев Берг в своей работе «Климат и жизнь» подчеркивал, что климат Синайского полуострова не изменился за последние семь тысяч лет и что здесь и в Египте, «если бы и было изменение, то скорее в сторону увеличения, а не уменьшения атмосферных осадков».
К аналогичным выводам приходит и Лисицина, которая пишет: «Климат аридной зоны в десятом – седьмом тысячелетиях до нашей эры мало чем отличается от современного». У нас нет оснований считать, что климат запада Малой Азии, где в настоящее время растут дафна, вишня, барбарис, маквиса, калабрийская сосна, дуб, грабинник, хмелеграб, ясень, белый и колючий астрагал, живут также животные как мангуст, гинета, шакал, дикообраз, муфлон, дикий осел, гиена, летучие мыши и саранча, а «снег выпадает не каждый год, снежный покров, как правило, не образуется», тогда столь значительно отличался от современного, чтобы она могла быть похожей на ту суровую прародину ранних индоевропейцев, которая реконструируется на основе их лексики.
Сафонов пишет: «Глубокое родство бореального с тюркскими и уральскими языками, позволяет локализовать бореальную общность в лесной зоне от Рейна до Алтая».
Напомним, что: «Из ландшафтной лексики в бореальном праязыке обильнее всего представлены корневые слова, так или иначе связанные с лесом. Образ этого ряда с полной очевидностью указывает, во-первых, на лесистый характер той местности, где жили племена, говорившие на БП, во-вторых, на присутствие хвойных пород в этих лесах». Но полоса хвойных лесов в десятом тысячелетии до нашей эры тянулась не от Рейна до Алтая (в широтном направлении, как предполагает Сафронов), а субмередионально с юго-запада (от предгорий Карпат) на северо-восток (до реки Печоры).
Следовательно, ранние индоевропейцы именно из этой лесной зоны могли начать свои подвижки по всем направлениям (и в том числе на территорию Малой Азии), из чего, естественно, не следует, что население Чатал Гуюка в восьмом тысячелетии до нашей эры было не индоевропейским. Вероятно, Чатал Гуюк был лишь небольшой частью огромного раннеиндоевропейского ареала. Напомним, что это время было временем пика смешанных широколиственных лесов, доходящих на севере Восточной Европы до побережья Белого моря, и что ранним индоевропейцам для ведения скотоводчески-земледельческого хозяйства (подсечно-огневое земледелие) в комплексе с охотой, рыболовством и собирательством необходимы были весьма значительные территории.
И хотя Сафронов пишет, что: «В начале мезолита зона производящего хозяйства была крайне ограничена» и в нее входили «лишь горы Загроса, Юго-Восточной Анатолии, Северная Сирия, а также Палестина», о наличии производящего хозяйства на территории Восточной Европы в седьмом тысячелетии до нашей эры, свидетельствуют археологические материалы. Вновь обращаясь к выводам Матюшина, подчеркнем, что на границе седьмого тысячелетия до нашей эры на Южном Урале фиксируется наличие домашней лошади и на двадцати двух памятниках найдены остатки домашних животных (козы, овцы, крупного рогатого скота, лошади и собаки).
Именно этот набор прирученных животных – бык, корова, овца, коза, свинья, лошадь и собака – зафиксирован в лексике ранних индоевропейцев. И, конечно, глубокое родство, предка раннеиндоевропейского праязыка – древнего бореального (северного) языка с уральскими (финно-угорскими) и алтайскими (тюркскими) языками естественно вытекает из локализации племен носителей этого бореального языка в эпоху финала верхнего палеолита (пятнадцать тысяч лет до нашей эры) именно в зоне смешанных и хвойных лесов, на территории Восточной Европы.
Миграции части бореальных племен за Урал, на территорию Сибири и в предгорья Алтая логичны и объяснимы давлением избытка населения на территории Восточной Европы в этот период, что могло быть вызвано нехваткой охотничьих угодий при охотничье-рыболовческом типе хозяйства, когда оптимальная плотность населения составляла один человек на сорок квадратных клометров.
Такие подвижки и в последующее раннеиндоевропейские время могли быть весьма значительными во всех направлениях и «увести» часть населения индоевропейского ареала вплоть до запада Малой Азии. Мелларт – первооткрыватель культуры Чатал-Гуюка, отмечал, что уже двенадцать тысяч лет назад в этих районах появляются пришельцы, объединения которых «были более крупными и лучше организованными чем у их предшественников. Эти группы мезолитических людей с их специализированными орудиями, видимо, были потомками верхнепалеолитических охотников, однако только в одном пункте – в Зарди, в горах Загроса, – найдены материалы, позволяющие говорить о приходе носителей этой культуры с севера – может быть из русских степей, из-за Кавказа».
Таким образом, не отвергая мысль о том, что население Анатолии было в восьмом тысячелетии до нашей эры раннеиндоевропейским, пришедшим с территории своей древней прародины – лесной зоны Восточной Европы, мы можем предполагать, что большая часть ранних индоевропейцев продолжала жить именно на этой своей прародине, что в значительной степени подтверждается и ранее приведенными выводами лингвиста Фридриха о том, что: «праславянский лучше всех других групп индоевропейских языков сохранил индоевропейскую систему обозначения деревьев. Носители общеславянского языка в общеславянский период жили в экологической зоне (в частности определяемой по древесной флоре) сходной или тождественной соответствующей зоне общеиндоевропейского, а после общеславянского периода носители различных славянских диалектов в существенной степени продолжали жить в подобной области». Зона смешанных хвойно-широколиственных лесов, повторяем, уже в седьмом тысячелетии до нашей эры доходила на территории Восточной Европы вплоть до побережья Белого моря.