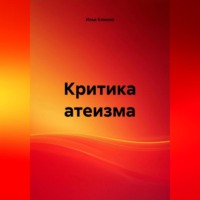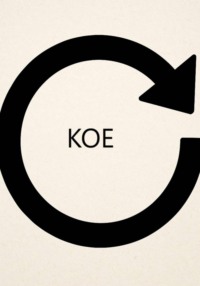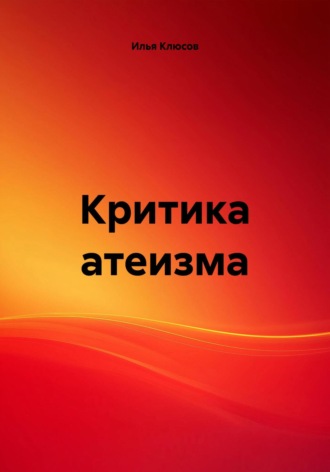
Полная версия
Критика атеизма
Апофатическая теология идет еще дальше, утверждая принципиальную неопределимость божественного. Согласно этому подходу, Бог трансцендентен по отношению ко всем человеческим категориям и понятиям. Любое позитивное определение Бога неизбежно ограничивает и искажает его природу. В результате Бог определяется через отрицание: не конечный, не изменчивый, не материальный и т.д. Такая стратегия создает серьезные трудности для атеистической критики, поскольку неясно, против чего именно направлена эта критика.Эта ситуация порождает своеобразную "гонку вооружений" между теистической и атеистической аргументацией. Когда атеисты выдвигают аргументы против определенной концепции Бога, теисты могут модифицировать или уточнять свое определение, чтобы избежать критики. В ответ атеисты разрабатывают более сложные аргументы, направленные против новых формулировок, и так далее.
Некоторые атеисты реагируют на эту ситуацию, утверждая, что слишком абстрактные или апофатические определения Бога лишены когнитивного содержания и содержат в себе пустые понятия. Если Бог определяется таким образом, что никакое эмпирическое наблюдение не может ни подтвердить, ни опровергнуть его существование, то такое понятие, согласно принципу верификации, бессмысленно. Однако этот подход сам опирается на спорные философские предпосылки о природе познания.Другая стратегия состоит в том, чтобы показать, что даже самые абстрактные определения Бога содержат скрытые противоречия или неявные предпосылки, которые могут быть подвергнуты критике. Например, понятие "необходимого существа" опирается на определенные представления о модальной логике и онтологии, которые сами требуют обоснования.
В конечном счете видно, что проблема определения понятия "Бог" указывает на более глубокие философские вопросы о природе языка, познания и реальности. Из нее легко увидеть что атеистическая критика не может ограничиваться простым отрицанием существования Бога, но должна включать в себя сложный анализ самих понятий и категорий, используемых в теологическом дискурсе, если она хоть сколько нибудь претендует на то чтобы ее аргументы были всерьез рассмотрены Это делает атеизм не просто отрицанием определенных религиозных утверждений, но самостоятельной философской позицией, требующей серьезного теоретического обоснования.
Проблема определимости божественных атрибутов
Апофатическая (отрицательная) теология и ее вызовы для атеистической критики представляют собой одну из наиболее сложных областей философии религии. Эта проблематика затрагивает фундаментальные вопросы о границах человеческого познания, природе языка и возможности говорить о трансцендентном.
Апофатическая теология возникла как попытка разрешить парадокс: как говорить о том, что принципиально превосходит возможности человеческого понимания и языка. В отличие от катафатической (положительной) теологии, которая стремится описать Бога через позитивные атрибуты (всемогущий, всеведущий, всеблагой), апофатический подход утверждает, что божественная природа может быть постигнута только через отрицание всех конечных определений. Определение Бога строится так через перечисление тех качеств, которые точно ему не свойственны: Бог не познаваем, Бог ничем не ограничен и т.д.
Псевдо-Дионисий Ареопагит, один из основоположников этой традиции, писал: "Бог не есть ни душа, ни разум… ни число, ни порядок, ни величина… ни сущность, ни вечность, ни время". Такой подход создает особую эпистемологическую ситуацию, в которой божественное определяется через то, чем оно не является, через последовательное отрицание всех возможных предикатов. Майстер Экхарт развивал эту мысль, говоря о "Божестве за Богом" – реальности, которая предшествует даже самому понятию Бога как личности. В восточно-христианской традиции Григорий Палама проводил различие между непознаваемой сущностью Бога и его познаваемыми энергиями, что также отражает апофатический подход.
Апофатическая теология порождает глубокие философские проблемы. Если Бог трансцендентен по отношению к любым категориям мышления, то возникает вопрос: как вообще возможно говорить о нем? Этот парадокс выражается в том, что даже само отрицание атрибутов является формой предикации. Когда мы говорим "Бог не есть X", мы все равно используем язык, который по определению неадекватен для описания трансцендентного.Философ Николай Кузанский предложил концепцию "ученого незнания" (docta ignorantia), согласно которой высшая форма знания о Боге – это осознание принципиальной невозможности его познания. Он также разработал идею coincidentia oppositorum – совпадения противоположностей в божественной природе, где противоречия, непреодолимые для человеческого разума, оказываются преодоленными.Современный философ религии Дэвид Бентли Харт отмечает, что апофатическая теология не просто отрицает возможность позитивных утверждений о Боге, но указывает на радикальную инаковость божественного, которая делает неприменимыми сами категории бытия и небытия в их обычном понимании. Апофатическая теология создает серьезные методологические трудности для атеистической аргументации. Проблема референта критики становится центральной: если Бог не поддается определению в конкретных терминах, то атеист оказывается в ситуации, когда он вынужден критиковать концепцию, которая принципиально ускользает от фиксированных определений.Иммунитет к логическому опровержению возникает из самой природы апофатического дискурса. Когда теолог утверждает, что Бог находится за пределами логических категорий, любая попытка выявить логические противоречия в концепции Бога может быть отвергнута как неприменимая к трансцендентной реальности. Это создает ситуацию, в которой апофатическая теология становится практически неуязвимой для традиционных форм логической критики.
Проблема верификации/фальсификации также приобретает особую остроту. Если утверждения о Боге принципиально не могут быть проверены эмпирическим путем, то они оказываются вне сферы научного метода. Это ставит под вопрос саму возможность рационального обсуждения теологических утверждений с позиций эмпиризма. та неспособность теологических утверждений к опровержению напрямую сталкивается с методологическими требованиями, сформулированными Карлом Поппером в его эпистемологии. Поппер четко обозначил, что сущность научного метода заключается не в возможности доказать теорию, а в ее принципиальной *опровергаемости*. Он утверждал: «Критерием, который я предлагаю в качестве критерия демаркации между наукой и не-наукой (метафизикой) является фальсифицируемость» С этой точки зрения, утверждения, которые не могут быть опровергнуты никаким мыслимым опытом, по определению выходят за рамки науки.
Применение критерия Поппера к теистическим доктринам, особенно тем, которые оперируют трансцендентными сущностями, неизбежно приводит к их отнесению к метафизике, а не к эмпирической науке. Если утверждение о существовании Бога формулируется таким образом, что ни одно наблюдаемое явление не может его опровергнуть (будь то через отрицание Его свойств или через признание Его полной неуловимости), то оно не удовлетворяет требованию фальсифицируемости. Следовательно, с позиций критического рационализма, теология не может быть верифицирована или фальсифицирована методами, применимыми к естественным наукам, что и составляет суть методологической проблемы демаркации.
Перед лицом этих трудностей атеистическая философия разработала несколько стратегий критики. Одна из них – критика когнитивной значимости теологических утверждений. Логические позитивисты, такие как Рудольф Карнап и А.Дж. Айер, утверждавшие, что смысл предложения заключается в возможности его эмпирической проверки, и что утверждения, которые не являются тавтологиями или не поддаются проверке, бессмысленны, применяли принцип верификации, согласно которому утверждение имеет смысл только если существует метод его эмпирической, т.е опытной проверки. С этой точки зрения, утверждения о неопределимом Боге лишены когнитивного содержания и должны рассматриваться как бессмысленные.
Аргумент от бессмысленности развивает эту линию, утверждая, что если понятие Бога не имеет четкого содержания, то оно не может быть предметом рационального обсуждения. Антони Флю в своей знаменитой притче о садовнике показал, как религиозные утверждения могут быть сформулированы таким образом, что они становятся неопровержимыми, но при этом теряют какое-либо содержательное значение.
Однажды два исследователя вышли на поляну в джунглях. Поляна была усеяна цветами и сорняками. Один из исследователей говорит: «Какой-то Садовник, должно быть, ухаживает за этой поляной». Другой возражает: «Здесь нет никакого Садовника». Тогда они ставят палатку и начинают наблюдать. Время идет, Садовника не видно. «Но, быть может, садовник – невидимка». И они окружают поляну колючей проволокой. Они пускают ток через проволоку. Они патрулируют поляну с овчарками. (Они помнят, как «человека-невидимку» Герберта Уэллса можно было обнаружить по запаху или касанием, хотя он оставался невидимым.) Ни единого вопля, который выдал бы гостя, не раздалось. Движения проводов не выдали ни одной попытки пролезть через них. Ни разу не залаяли овчарки. И все равно Верующий настаивает на своем: «Здесь есть Садовник, невидимый, бестелесный, не подверженный электрошокам; Садовник без запаха и не издающий звуков; Садовник, секретно ухаживающий за своим любимым садом». И, в конце концов, Скептик отчаивается: «Что остается от твоего исходного утверждения? Чем отличается тот, кого ты называешь невидимым, бестелесным, совершенно неуловимым Садовником от воображаемого садовника, да и вообще от утверждения, что Садовник не существует?»
Более тонкий подход к критике апофатической теологии предлагает диалектический метод. Он заключается в выявлении скрытых противоречий и неявных позитивных утверждений, которые содержатся даже в самых радикальных апофатических формулировках. Например, утверждение "Бог непознаваем" само по себе является позитивным утверждением о природе Бога, что создает парадокс.
Критика "негативного пути" может показать, что последовательное отрицание всех атрибутов в конечном итоге приводит к понятию, которое неотличимо от несуществования. Если мы отрицаем все возможные предикаты, включая само существование, то что остается от понятия Бога?
Прагматическая критика апофатической теологии, в свою очередь, фокусируется на вопросе о релевантности неопределимого Бога для человеческой жизни и познания. Аргумент от избыточности утверждает, что неопределимый Бог не выполняет никаких объяснительных функций в понимании мира. В самом деле, если Бог настолько трансцендентен, что о нем нельзя сказать ничего определенного, то какую роль он может играть в научном или философском объяснении реальности?Если Бог настолько "абстрактен", что мы не можем использовать Его для объяснения ничего конкретного в нашем мире (потому что любое конкретное объяснение "ограничило" бы Его), то Он перестает быть действующим элементом в нашем мышлении. Он становится философским "заглушкой" или "костылем", который не несет никакой реальной нагрузки в процессе познания. Принцип экономии мышления, известный как "бритва Оккама", предлагает не умножать сущности без необходимости. С этой точки зрения, введение понятия неопределимого Бога не добавляет предсказательной или объяснительной силы нашим теориям о мире и потому должно быть отвергнуто как избыточное.
Теологи на это часто возражают, что религиозный язык функционирует по принципу аналогии или метафоры. Фома Аквинский разработал учение об аналогическом характере предикации в отношении Бога: когда мы говорим, что Бог благ, мы используем понятие благости аналогически, а не в том же смысле, в каком мы применяем его к человеку. Символический характер религиозного языка подчеркивается в работах таких теологов, как Пауль Тиллих, который рассматривал религиозные символы как указывающие на "предельную реальность", которая сама по себе невыразима. С этой точки зрения, религиозные высказывания следует понимать не как буквальные описания реальности, а как символические выражения, указывающие на трансцендентное.
Кантианская перспектива предлагает рассматривать божественные атрибуты как трансцендентальные идеи, выходящие за пределы возможного опыта. Согласно Канту, человеческий разум неизбежно формирует идеи, которые выходят за границы возможного опыта, но эти идеи не могут быть предметом теоретического знания. Это создает пространство для "веры" в отличие от "знания"Проблема когнитивных ограничений ставит вопрос о том, насколько обоснованы утверждения о принципиальной непознаваемости Бога. Можем ли мы знать, что нечто непознаваемо, и если да, то не является ли это уже формой познания?
Проблема объективных моральных ценностей в атеистической парадигме или
"Если бога нет, то все дозволено?"
Атеистическое мировоззрение, отрицающее существование трансцендентного источника морали, сталкивается с рядом концептуальных вызовов при обосновании объективного статуса моральных ценностей. Эта проблематика представляет собой одно из наиболее дискутируемых направлений в современной философии морали и метаэтике. Центральное противоречие заключается в попытке совместить натуралистическую онтологию, характерную для большинства атеистических концепций, с утверждением объективного характера моральных суждений. Если реальность исчерпывается физическими процессами и явлениями, описываемыми естественными науками, то возникает вопрос об онтологическом статусе моральных фактов и их нормативной силе.
Теистические критики атеистической этики, такие как Уильям Лейн Крейг и Алвин Плантинга, указывают на то, что без трансцендентного законодателя моральные императивы лишаются своего абсолютного характера и превращаются в субъективные предпочтения или социальные конвенции, т.е атеистическая парадигма неизбежно ведет к моральному релятивизму или нигилизму, поскольку не может обосновать универсальную обязательность моральных норм.
Атеистические философы предложили несколько стратегий решения этой проблемы:
1. Натуралистический реализм (Сэм Харрис, Пол Блум) утверждает, что моральные факты могут быть редуцированы к естественным фактам о благополучии сознающих существ. Согласно этому подходу, моральные суждения являются объективными в том же смысле, в каком объективны утверждения о здоровье – они относятся к реальным состояниям благополучия, которые могут быть эмпирически исследованы. Однако критики указывают на "натуралистическую ошибку" (Дж. Э. Мур) – невозможность логического выведения нормативных суждений из дескриптивных.Эволюционная этика (Майкл Рьюз, Ричард Докинз) объясняет происхождение моральных интуиций естественным отбором и адаптивной ценностью просоциального поведения. Но этот подход сталкивается с проблемой генетической ошибки – объяснение происхождения моральных убеждений не решает вопроса об их истинности или обоснованности. В самом деле, даже если я признаю реальность и биологическую обусловленность морали, на что я как субъект должен опираться в выборе, оказавшись в тяжелой ситуации морального распутья? Объективнось и биологическое происхождение морали в этот момент для меня не будут иметь значения.
2. Конструктивизм (Джон Ролз, Кристин Корсгаард) предлагает рассматривать моральные нормы как продукт рационального конструирования, осуществляемого идеальными субъектами в определенных условиях. Объективность морали в этом случае обеспечивается универсальностью рациональных процедур, а не соответствием трансцендентной реальности. Однако он не объясняет, почему мы должны следовать результатам таких конструктивистских процедур, то есть
3. Квазиреализм (Саймон Блэкберн) пытается совместить экспрессивистское понимание моральных суждений как выражений эмоциональных установок с признанием их объективного характера на уровне дискурса. Симон Блэкберн в своих работах по квазиреализму, особенно в книге Spreading the Word (1984) и статье How to Be an Ethical Antirealist (1986), объясняет, как моральные суждения могут выражать эмоциональные установки, сохраняя при этом видимость объективности в дискурсе. Вот одна из ключевых цитат из Spreading the Word (глава 6, "Evaluations, Projections and Quasi-Realism"), где он разъясняет суть квазиреализма и приводит пример:
«Мы проецируем на мир наши собственные реакции, но делаем это таким образом, что создаем язык, который позволяет нам говорить о моральных суждениях так, как будто они описывают независимые факты. Например, когда мы говорим: "Убийство – это неправильно", мы выражаем неодобрение убийства, но язык, который мы используем, допускает формулировку вроде "Это истина, что убийство неправильно". Это не означает, что мы открываем некую моральную сущность в мире; это означает, что наша практика говорить так дисциплинирована и логически связна, чтобы поддерживать такие утверждения». То есть говоря простыми словами, Блэкберн говорит: когда мы делаем моральные суждения (например, "Красть – плохо"), мы не описываем какие-то объективные факты, которые существуют в мире, как, скажем, законы физики. Вместо этого мы выражаем свои чувства, эмоции или установки. Но мы делаем это так, что наши слова звучат, будто мы говорим о чем-то объективном. Это как если бы мы "проецировали" свои эмоции на мир, а потом говорили о них так, как будто они реальны.
Однако остается вопрос, не является ли такая "объективность" лишь лингвистической фикцией. Дэвид Льюис или Джеймс Драйер, утверждают, что квазиреализм рискует скатиться в полноценный моральный реализм или, напротив, остаться формой фикционализма – где объективность действительно является "игрой в слова", поскольку в основе лежит проекция вымышленных свойств на реальность, без настоящего отслеживания фактов мира. Например, если квазиреализм позволяет говорить о "независимых моральных фактах" в дискурсе, но отрицает их существование, то где проходит грань с реальным моральным чувством и его имитацией?
Дополнительную сложность представляет проблема моральной мотивации. Если моральные факты существуют объективно, но не имеют трансцендентного источника, остается неясным, почему они должны обладать мотивирующей силой для рациональных агентов, особенно в ситуациях, когда моральное поведение противоречит их личным интересам.
Некоторые атеистические мыслители, такие как Дж. Л. Мэки, признают эту проблему и принимают позицию "ошибочной теории" (error theory), согласно которой моральные суждения претендуют на объективность, но в действительности не соответствуют никаким объективным фактам. Другие, как Фридрих Ницше, предлагают радикальный пересмотр традиционных представлений о морали и переоценку ценностей в свете "смерти Бога".
Современные дискуссии о проблеме объективных моральных ценностей в атеистической парадигме крайне сложны и противоречивы. Они указывают на необходимость дальнейшей разработки метаэтических концепций, способных согласовать натуралистическую онтологию с нормативными аспектами человеческого опыта, не прибегая к теистическим предпосылкам.
Проблема обоснования объективных моральных ценностей представляет собой серьезный концептуальный вызов для атеистического мировоззрения, требующий тщательного философского анализа и разработки новых теоретических подходов к пониманию природы и статуса моральных суждений в рамках натуралистической картины мира.
Первая глава нашей работы была посвящена критическому анализу и концептуальному прояснению самого объекта нашего изучения – атеизма. Как было отмечено, для обеспечения интеллектуальной строгости, сопоставимой с той, что атеизм требует от теистических систем, необходимо было прежде всего выйти за рамки обыденного, минималистского определения атеизма как простого отсутствия веры в божественное. Мы установили, что данная позиция, в своем наиболее широком понимании, является лишь отправной точкой, а не самодостаточной доктриной.сторический экскурс продемонстрировал, что атеистическая мысль не является монолитной. Ее эволюция прослеживается от натурфилософских попыток атомистов, таких как Демокрит. мы зафиксировали, что при всей своей критической направленности, атеизм не существует в вакууме. Он, как правило, имплицитно или эксплицитно связан с определенной онтологической базой, чаще всего натурализмом, ограничивающим объяснительную парадигму исключительно естественными законами, и материализмом, утверждающим материю как единственную субстанцию. Мы также обозначили потенциальные области внутренней напряженности, в частности, зависимость атеистической аргументации от *определимости* атрибутов того самого "Бога", чье небытие постулируется, а также необходимость прояснения потенциальных логических противоречий, которые могут возникнуть при формулировании сильных позитивных атеистических тезисов. Таким образом, мы подготовили почву для следующего этапа исследования, который будет посвящен анализу конкретных аргументов, выдвигаемых в поддержку позитивного атеизма, и оценке их соответствия заявленным стандартам интеллектуальной строгости.
Глава 2: Научные аргументы и их ограничения
Наука и ее методологические границы
Ранее мы рассматривали тезис о том что научный метод несмотря на свою эффективность в познании окружающей действительности имеет ряд ограничений. Этот вопрос следует рассмотреть отдельно.
Научный метод, безусловно, представляет собой одно из величайших достижений человеческого разума, позволившее нам проникнуть в тайны материального мира с беспрецедентной глубиной и точностью. Однако любой инструмент познания имеет свою область применимости, и наука не является исключением. Методологические границы науки не следует рассматривать как ее недостатки – скорее, они очерчивают сферу ее компетенции и определяют характер получаемого знания.
Прежде всего необходимо помнить, что наука по своей природе ориентирована на изучение эмпирически наблюдаемых и измеримых явлений. Это фундаментальное свойство научного метода одновременно является источником его силы и ограничением. Явления, которые не поддаются систематическому наблюдению или количественному измерению, оказываются труднодоступными для научного анализа. Внутренний мир человеческого сознания, субъективные переживания, эстетический опыт, моральные интуиции – все эти аспекты реальности, несомненно существующие и значимые для нас, не могут быть полностью охвачены научной методологией в ее нынешнем виде.
Квантовая механика демонстрирует, что наблюдение влияет на наблюдаемое. Эксперимент с двумя щелями показывает, что элементарные частицы ведут себя как волны вероятности до момента измерения. Это ставит под вопрос классическое представление о независимой от наблюдателя реальности, но сама наука не может окончательно решить, существует ли объективная реальность вне наблюдения.Эта неопределённость реальности в квантовой механике перекликается с тем, как наш мозг формирует восприятие мира, показывая, что наука изучает не "чистую" реальность, а её интерпретации.
Нейробиологические исследования показывают, что наше восприятие мира – это конструкция мозга. Цвета, звуки, запахи в том виде, в котором мы их воспринимаем, не существуют "там снаружи". Однако вера в то, что за этими конструкциями стоит объективная реальность, является философской предпосылкой, а не научным фактом.Подобно тому, как квантовые явления зависят от наблюдения, наше восприятие формирует реальность, но и в этом случае наука не может выйти за пределы своих методов, чтобы ответить на метафизические вопросы. Эта ограниченность становится ещё очевиднее в математической логике.
Теорема Гёделя о неполноте доказывает, что в любой достаточно сложной формальной системе существуют истинные утверждения, которые невозможно доказать средствами самой системы. Это фундаментальное ограничение познания, которое наука принимает, но не может преодолеть собственными методами.Ограничения Гёделя, как и в квантовой механике и нейробиологии, указывают на то, что наука не исчерпывает всей истины о мире. Это подводит нас к вопросу о методе науки и его философских допущениях.
Современная наука опирается на принцип методологического натурализма, который предписывает искать естественные причины наблюдаемых явлений. Этот подход доказал свою чрезвычайную эффективность, позволив объяснить множество феноменов, ранее считавшихся таинственными или сверхъестественными. Однако важно понимать, что методологический натурализм является рабочим принципом, а не окончательным вердиктом о природе реальности. Он не тождественен онтологическому натурализму, утверждающему, что природный мир исчерпывает всю реальность. Первый относится к способу получения знаний, второй – к метафизическому утверждению о том, что существует в действительности.Таким образом, все эти области – от квантовой неопределённости до ограничений логики и натурализма – показывают, что наука описывает мир в рамках своих инструментов, но не может охватить вопросы о реальности, морали или истине в целом. Здесь философия, такая как квазиреализм Блэкберна, помогает осмыслить то, что наука оставляет без ответа, например, почему мы говорим о морали, как об объективной истине, хотя она основана на наших чувствах.