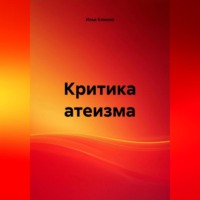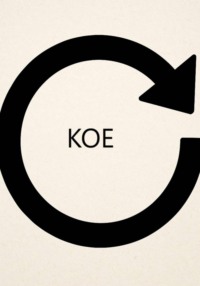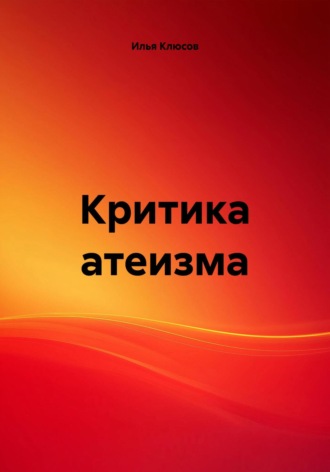
Полная версия
Критика атеизма

Илья Клюсов
Критика атеизма
Глава 1: Философские основания атеизма
Как мы и заявили во введении, наша главная цель – подвергнуть атеизм тому же стандарту интеллектуальной строгости, который он требует от теизма. Любое серьезное исследование должно начинаться с четкого определения своего объекта, и именно здесь, у самых основ, атеистическая мысль обнаруживает первую и, возможно, самую важную двусмысленность. В публичном пространстве атеизм часто предстает не как позиция, а как ее отсутствие, как риторический щит, за которым можно укрыться от необходимости что-либо доказывать. Однако для того, чтобы оценить атеизм как полноценное мировоззрение – то есть как систему, способную объяснить реальность, – мы обязаны выйти за рамки этого минималистичного самоопределения. Наш анализ должен начаться не с анализа аргументов, а с деконструкции самого понятия "атеизм", чтобы отделить психологическое состояние неверия от философской доктрины с ее собственными метафизическими обязательствами. Эта основополагающая задача и является отправной точкой данной главы.
В современном философском дискурсе принято различать несколько фундаментальных подходов к пониманию атеистической позиции.В наиболее общем смысле атеизм – это отсутствие веры в существование бога или богов. Но является ли такое определение достаточным для понимания всей полноты этого феномена? Философы обычно выделяют негативный (или слабый) атеизм, который характеризуется простым отсутствием теистических убеждений без активного отрицания божественного, и позитивный (или сильный) атеизм, представляющий собой осознанное утверждение о несуществовании божества.Эти различия подчеркивают многообразие атеистической мысли, которая не сводится к простому неверию, но отражает спектр мировоззренческих позиций, формировавшихся в разные исторические эпохи.
Исторически атеистическая мысль прошла долгий путь развития. В античности мы встречаем первые проявления натурфилософского атеизма у Демокрита ("Начала Вселенной суть атомы и пустота, все остальное лишь считается существующим"), который стремился объяснить мироздание без обращения к сверхъестественным силам. Эпоха Просвещения породила рационалистическую критику религии, представленную в трудах Дидро и Гольбаха. Девятнадцатый век – эпоха материалистического атеизма, а также марксистской концепции, рассматривающей религию как социальный феномен, отражающий экономические противоречия общества.
Двадцатый век, помимо прочего, обогатил атеистическую мысль экзистенциальным измерением. Философы-экзистенциалисты, такие как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, сосредоточились на проблеме человеческой свободы и ответственности в мире без бога. Сартр утверждал, что отсутствие божественного законодателя означает, что человек "обречен на свободу" и должен сам создавать смысл своего существования.
В начале двадцать первого века возникло движение, получившее название "новый атеизм". Его представители, среди которых Ричард Докинз, Кристофер Хитченс, Сэм Харрис и Дэниел Деннет, выступили с активной критикой религии как явления, препятствующего научному прогрессу и социальному благополучию, подчеркивая необходимость рационального, научного подхода к пониманию мира и человека.
Важно помнить, что атеизм, как и другая мировоззренческая позиция, не существует в вакууме и естественным образом сочетается с другими философскими позициями. Многие так называемые атеисты по инерции придерживаются натурализма, признавая только естественные явления и законы природы. Часто атеизм идет в ногу с материализмом, считая материю единственной реальной субстанцией. Зачастую опять же инерционно атеисты высказывают секуляристкие идеи – принцип отделения религиозных институтов от государственных.
Атеизм также пересекается с агностицизмом – позицией о непознаваемости или недоказуемости существования бога согласно которой вопрос о существовании бога не имеет однозначного ответа или что само понятие "бог" недостаточно определено для содержательной дискуссии. В современном же мире одним из ведуших остается взявший свое начало еще в Античности и получивший развитие в эпоху Ренессанса гуманистический атеизм, который сочетает отрицание бога с утверждением ценности человеческой личности и этических принципов, основанных на рациональном мышлении и эмпатии.
Тем не менее необходимо понимать, что атеизм сам по себе не является целостным мировоззрением. Атеисты могут придерживаться самых разных этических, политических и социальных взглядов. Понимание этого многообразия необходимо для адекватного осмысления религиозно-философских дискуссий.
Материализм и натурализм как мировоззренческие основы
Фундаментальными мировоззренческими опорами атеизма выступают материализм и натурализм, представляющие собой взаимосвязанные, но концептуально различные философские традиции.
Материализм утверждает онтологический (в сфере бытия) примат материи над сознанием, постулируя, что физическая реальность является первичной и самодостаточной. В историческом контексте материалистическая традиция прослеживается от античных атомистов Демокрита и Эпикура, через французских просветителей XVIII века (Гольбах, Ламетри, Дидро), к диалектическому материализму Маркса и Энгельса и современным формам физикализма. Ключевой тезис материализма – все существующее либо имеет материальную природу, либо является производным от материальных процессов. Сознание, в материалистической парадигме, рассматривается не как независимая субстанция, но как функция высокоорганизованной материи. Натурализм, в свою очередь, утверждает, что природа является самодостаточной системой, функционирующей согласно постоянно присущим ей законам, без необходимости привлечения сверхъестественных объяснений. Натуралистический подход предполагает, что все явления, включая человеческое сознание, мораль и социальные институты, могут и должны быть объяснены в терминах естественных процессов. «Ничто не существует, кроме атомов и пустоты; все остальное – лишь мнение» (Демокрит, древнегреческий философ, V век до н.э.)
Взаимодействие материализма и натурализма создает концептуальный каркас, в рамках которого атеистическое мировоззрение обретает свою философскую легитимность. Если материализм утверждает, что реальность исчерпывается материальными процессами, а натурализм настаивает на самодостаточности природы и ее законов, то постулирование трансцендентного божества становится избыточным с точки зрения объяснительной экономии. Принцип "бритвы Оккама", требующий не умножать сущности без необходимости, в данном контексте работает против теистических гипотез.
Важно понимать, что современные формы материализма и натурализма существенно отличаются от своих исторических предшественников. Квантовая физика и теория относительности трансформировали классические представления о материи, размывая границы между веществом и энергией, частицей и волной. Эволюционная биология и когнитивные науки предложили натуралистические объяснения феноменов, традиционно считавшихся доказательствами божественного замысла. Эти научные революции не только не ослабили, но, напротив, частично укрепили философские основания атеизма, предоставив более утонченный и эмпирически обоснованный концептуальный аппарат.
Таким образом, материализм и натурализм создают прочную основу для атеистического взгляда на мир.
Рационализм и эмпиризм в атеистической аргументации
Атеистическая мысль на протяжении своего исторического развития опиралась на две фундаментальные (с точки зрения познания) традиции – рационализм и эмпиризм, которые, несмотря на методологические различия, сформировали комплементарный инструментарий критического анализа религиозных верований.Рационалистическая традиция в атеистической аргументации восходит к античной философии и получает особое развитие в эпоху Просвещения. Она базируется на примате разума как высшего арбитра в вопросах познания и оценки истинности утверждений. Рационалистическая критика теизма концентрируется на выявлении логических противоречий в религиозных концепциях, демонстрируя их несостоятельность с позиций формальной логики и аналитического мышления.
Классическим примером рационалистической атеистической аргументации является проблема теодицеи – логического противоречия между постулируемыми атрибутами божества (всемогущество, всеведение, всеблагость) и существованием зла в мире. Эпикур, а впоследствии Дэвид Юм и многие другие мыслители, формулировали этот аргумент как демонстрацию внутренней противоречивости теистической концепции. «Если Бог желает предотвратить зло, но не может, то он не всемогущ. Если он может, но не желает, то он не всеблаг. Если он и желает, и может, то откуда тогда зло?» (Эпикур, цитируется Лактантием, III век н.э.).Другие рационалистические аргументы включают анализ логической несостоятельности понятия "необходимого существа", критику онтологического доказательства бытия Бога и выявление противоречий в концепции божественного всеведения и свободы воли.Рационалистический подход в атеистической мысли также проявляется в применении принципа достаточного основания и методологического натурализма. Согласно этим принципам, любое утверждение о реальности должно иметь рациональное обоснование, а объяснения феноменов должны в первую очередь искаться в рамках естественных причинно-следственных связей, без привлечения сверхъестественных сущностей. Карл Саган в книге "Мир, полный демонов" (1995) подчеркивал важность научного подхода: если явление, например, происхождение жизни, можно объяснить через биохимические процессы (как в экспериментах Миллера-Юри, показавших возможность образования органических молекул), то нет необходимости прибегать к божественному вмешательству:«Космос – это всё, что есть, было и будет. Никакие сверхъестественные силы не требуются, чтобы объяснить его существование» (Карл Саган, Космос, 1980). Саган утверждает, что Вселенная объясняется естественными законами, которые мы изучаем наукой, например, физикой или биологией. Если мы можем объяснить, как из простых молекул возникла жизнь, зачем придумывать, казалось бы, сверхъестественные причины?
Эмпирическая традиция в атеистической аргументации, в свою очередь, фокусируется на отсутствии эмпирических свидетельств существования божественных сущностей и несоответствии религиозных утверждений наблюдаемой реальности. Эмпирический подход, получивший особое развитие начиная с XVII века в работах Фрэнсиса Бэкона, Джона Локка и Дэвида Юма, настаивает на том, что знание должно основываться на чувственном опыте и эмпирической проверке. В контексте атеистической мысли эмпиризм проявляется в требовании предоставления верифицируемых доказательств существования божества. Отсутствие таких доказательств рассматривается как основание для отрицания теистических утверждений в соответствии с принципом, что бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает позитивное утверждение о существовании чего-либо. Эмпирическая критика религии также включает анализ происхождения религиозных верований с позиций антропологии, психологии и социологии. Работы Людвига Фейербаха, Карла Маркса, Зигмунда Фрейда и современных когнитивных психологов религии предлагают натуралистические объяснения генезиса религиозных представлений, рассматривая их как продукты человеческой психики и социальных процессов, а не как отражение трансцендентной реальности.
Таким образом, рационализм и эмпиризм как эпистемологические традиции сформировали богатый методологический арсенал атеистической мысли, позволяющий подвергать критическому анализу теистические утверждения с различных перспектив и на различных уровнях абстракции – от формально-логического до конкретно-эмпирического. Однако на методологическом и логическом уровнях два этих подхода содержат в себе ряд недостатков, речь о которых пойдет ниже.
Логические противоречия в атеистических концепциях
Одной из наиболее распространенных логических ошибок или намеренных софистических приемов в атеистической аргументации является ошибка "соломенного чучела" (straw man fallacy). Она заключается в искажении или упрощении позиции оппонента с целью облегчения ее критики. В контексте атеистической критики религии эта ошибка проявляется в нескольких характерных формах.
Во-первых, это представление наивных, примитивных форм религиозности как репрезентативных для теизма (т.е наиболее ему свойственных) в целом. Например, критика антропоморфных (человекоподобных) представлений о Боге как о "бородатом старце на облаке" игнорирует сложные теологические концепции Бога, разработанные в классической теологии. Мыслители вроде Фомы Аквинского, Николая Кузанского или Пауля Тиллиха предлагали гораздо более утонченные концепции божественного, не сводимые к примитивному антропоморфизму.Критика атеистами антропоморфных представлений о Боге часто встречается в популярных работах, таких как книга Ричарда Докинза "Бог как иллюзия" (2006). Докинз высмеивает образ Бога как «старика на небе», управляющего миром, и использует это как аргумент против религии. Однако эта критика упрощает теистические концепции, игнорируя более сложные представления, например, Бога как вневременной, нематериальной и трансцендентной сущности в трудах Фомы Аквинского или современной аналитической теологии. Например, Аквинский в Сумме теологии описывает Бога как «акт чистого бытия» (actus purus), а не как антропоморфное существо: «Бог не есть существо среди прочих существ, но само бытие, субсистирующее само по себе» (Фома Аквинский, Сумма теологии, I, q.3, a.4).
Во-вторых, это искажение теологических аргументов путем их упрощения. Например, космологический аргумент часто представляется атеистическими критиками как наивное утверждение, что "всё должно иметь причину, следовательно, у вселенной должна быть причина – Бог". Однако в действительности классические формулировки космологического аргумента, от Аристотеля до современных версий Крейга или Суинберна, гораздо сложнее и включают тонкие метафизические различения между типами причинности, необходимым и случайным существованием и т.д. Краусс – американский физик, например, предлагает, что квантовая физика может объяснить возникновение Вселенной из «ничего», тем самым якобы опровергая необходимость Бога. Однако классические версии космологического аргумента, такие как у Аристотеля или Фомы Аквинского, а также современные интерпретации Уильяма Лейна Крейга не просто говорят о «причине», а различают случайные (зависимые) и необходимые (самодостаточные) сущности и обсуждают не просто «причину», а метафизическую основу бытия,что требует более глубокого анализа, чем простое отрицание:«Если Вселенная имеет начало, то её причина должна быть вне времени, пространства и материи, иначе мы попадаем в бесконечный регресс причин, что логически абсурдно» (Уильям Лейн Крейг, Разумная вера, 1994).
Ошибка композиции заключается в неправомерном переносе свойств частей на целое. В атеистической аргументации эта ошибка часто проявляется в форме обобщений на основе отдельных негативных примеров религиозных практик или поведения верующих. Типичным примером является аргументация, основанная на перечислении исторических преступлений, совершенных от имени религии (инквизиция, религиозные войны, терроризм), с последующим выводом о порочности религии как таковой. В своей книге Бог не велик: Как религия отравляет всё (2007) Хитченс приводит примеры вроде крестовых походов (XI–XIII века), охоты на ведьм в Европе (XV–XVII века) и современных терактов, таких как атаки 11 сентября 2001 года, чтобы заявить, что религия – это первопричина насилия и фанатизма. Он утверждает, что религиозные убеждения напрямую ведут к конфликтам и жестокости, игнорируя при этом сложный исторический контекст.Такая аргументация не учитывает всю сложность исторических процессов, в которых религиозные мотивы переплетались с политическими, экономическими и социальными и личностными факторами, а также не учитывает позитивный вклад религиозных традиций в развитие культуры, этики и социальных институтов. Например, крестовые походы, совершаемые в средневековье, помимо очевидного имели в основе своей и другие мотивы – политические и экономические – расширение сфер влияния как способ утвердить свою политическое превосходство. А характер их жестокости может отражать не столько свойство конкретной религии, а личностную характеристику того, кто отдавал конкретные приказы – командующего армией, короля и т.д
Другой распространенной формой этой ошибки является обобщение на основе отдельных примеров интеллектуальной несостоятельности верующих. Выявление логических противоречий или фактических ошибок в аргументации отдельных религиозных апологетов не может служить основанием для вывода о несостоятельности теизма как философской позиции, имеющей многовековую традицию интеллектуального и духовного развития. В самом деле, если некто делает несостоятельное нелогичное суждение, даже если он такой не один, а, скажем, их 10 или 20, знакомство с ними – это всего лишь источник опыта одного конкретного индивида, что никак не может служить в качестве адекватной выборки для суждения обо всех или хотябы большинстве верующих, уже не говоря о том, что этот аргумент о предполагаемой интеллектуальной несостоятельности верующих легко разбивается при упоминании таких гигантов мысли как Декарт, Паскаль, в России – Соловьев, Бердяев, Достоевский и т.д. Кроме того, как было сказано, сам этот тезис содержит подмену понятий – предполагаемая интеллектуальная несостоятельность верущих ничего не говорит об истинности того или иного религиозного мировоззрения.
Ошибка деления является логическим противоположением ошибки композиции и заключается в неправомерном приписывании свойств целого его отдельным частям. В атеистической аргументации эта ошибка проявляется в форме приписывания всем верующим или религиозным институтам свойств, которые могут быть характерны для религии лишь в некоторых ее исторических или культурных проявлениях. Например, критика религии как догматической и авторитарной системы, подавляющей критическое мышление, может быть справедлива в отношении определенных религиозных течений или исторических периодов, но не может быть автоматически распространена на все формы религиозности. Например, существуют религиозные традиции и направления, которые поощряют интеллектуальный поиск, критическое исследование текстов и диалог с другими мировоззренческими системами. Среди них буддизм, особенно в его древних формах и среди современных философов-буддистов, таких как Далай-лама, который призывает к рациональному исследованию и диалогу. Другой пример – это развитие еврейской теологической мысли, где толкование Торы всегда сопровождалось экзигетическим анализом, дискуссиями и стремлением к диалогу между различными школами. Также, в исламском мире существует традиция мутазилитов, придерживавшихся рационалистического подхода к вере, а в христианстве, как ни странно- схоластика, которая использовала логику для обоснования теологических доктрин. Аналогично, обвинение всех верующих в интеллектуальной нечестности или когнитивном диссонансе на основании того, что религия в целом якобы противоречит научному мировоззрению, игнорирует существование различных моделей соотношения веры и разума, разработанных в религиозной философии, а также тот факт, что многие выдающиеся ученые были и остаются верующими людьми.
Генетическая ошибка заключается в оценке идеи на основании ее происхождения, а не содержания. В атеистической аргументации эта ошибка часто проявляется в форме отвержения религиозных идей на основании их предполагаемого психологического или социального генезиса. Характерным примером является аргументация, основанная на психологических теориях происхождения религии (религия как проекция человеческих желаний по Фейербаху, как "невроз человечества" по Фрейду, как "опиум народа" по Марксу). Даже если эти теории содержат элементы истины в отношении психологических и социальных функций религии, они не могут служить основанием для отвержения истинностных притязаний религиозных утверждений, их логическим опровержением. В самом деле, как факт предполагаемого происхождения религии может служить почвой для аргументов в несостоятельности ее доктрин? Происхождение идеи логически не связано с ее истинностью или ложностью. Додумался я до нее сам, или мне ее подсказали, или я создал ее в психологическом надрыве своего невроза – это может говорить о моих мотивах, возможно, но это абсолютно ничего не говорит о ее истинности.
Другой формой генетической ошибки является аргументация, основанная на культурной и исторической обусловленности религиозных верований. Указание на то, что религиозные представления варьируются в зависимости от культуры и исторического периода, не опровергает возможность того, что некоторые из этих представлений могут отражать трансцендентную реальность, воспринимаемую через призму конкретных культурных форм.Эта ошибка заключается в неправомерном расширении сферы компетенции научного метода на вопросы, которые по своей природе выходят за пределы научной методологии. В атеистической аргументации она часто проявляется в форме утверждений, что наука "опровергла" существование Бога или что научное мировоззрение несовместимо с религиозной верой. Это излюбленный и самый популярный аргумент научных атеистов, который сам по себе показывает не столько ущербность самой аргументации, сколько ограниченность их мировозрения в этом вопросе. Вопрос о существовании Бога относится к сфере трансцендентого – сверхфизического, сверхреального мира и не может быть познан и решен каким бы то ни было образом инструментами "земного" мира. Иными словами, такая аргументация игнорирует методологические ограничения науки, которая по своей природе ограничена исследованием эмпирически наблюдаемых феноменов и их закономерностей. В самом деле, если мы постулируем, что Бог есть нечто сверхчеловеческое и всемогущее, как мы можем судить о нем использкя инструментамы сугубо человеческие- логику и обыденный здравый смысл – тем, что божественное существование значительно превосходит по своей сущности.
Отдельно стоит остновиться на ошибке подмены тезиса (ignoratio elenchi) или банальной подмены понятий заключается в доказательстве положения, отличного от того, которое требовалось доказать. В атеистической аргументации эта ошибка часто проявляется в форме критики религиозных институтов, практик или социальных последствий религии вместо анализа теистических аргументов как таковых. Например, критика коррупции в религиозных организациях, анализ негативных психологических последствий определенных религиозных практик или указание на использование религии для политической манипуляции могут быть вполне обоснованными, но как я уже говорил, они не имеют прямого отношения к вопросу об истинности или ложности теистического мировоззрения. Институциональные, психологические и социальные аспекты религии следует отличать от ее философских и теологических оснований. Другой формой подмены тезиса является смешение критики конкретных религиозных доктрин с критикой теизма как философской позиции. Выявление противоречий или исторических неточностей в священных текстах конкретных религий не может служить опровержением философского теизма, который основывается на метафизических аргументах, не зависящих от конкретных религиозных традиций.
Зависимость аргументации от определения понятия "Бог"
Проблема определения понятия "Бог" представляет собой фундаментальный вызов для любой атеистической критики. Невозможно эффективно аргументировать против существования сущности, определение которой остается неясным или постоянно меняется в ходе дискуссии. Эта методологическая трудность имеет глубокие философские корни. В религиозном и философском дискурсе существует огромное разнообразие концепций божественного. От антропоморфного Бога авраамических религий до абстрактного "Абсолюта" философского идеализма, от личностного творца до безличного первопринципа – каждая из этих концепций требует специфического подхода . Атеистическая аргументация, эффективная против одного понимания Бога, может оказаться совершенно неприменимой к другому.
Конкретные теистические определения Бога, наделяющие его специфическими атрибутами и функциями, создают более четкую мишень для критики.Например, когда Богу приписываются всемогущество, всеведение и всеблагость, возникает классическая проблема теодицеи: как совместить эти атрибуты с существованием зла и страданий в мире? Когда утверждается, что Бог активно вмешивается в природные процессы или человеческую историю, возникает вопрос о возможности эмпирической проверки таких утверждений.
По мере того как теологическая мысль развивалась, определения божественного становились все более утонченными и абстрактными. Бог философского теизма во многих теологических текстах часто определяется через такие понятия как "необходимое существо", "чистый акт", "самосущее бытие" или "основание всякой реальности". Такие определения по видимому намеренно формулируются таким образом, чтобы избежать стандартных возражений, опираясь на сложные метафизические системы и используют понятия, которые сами требуют прояснения.