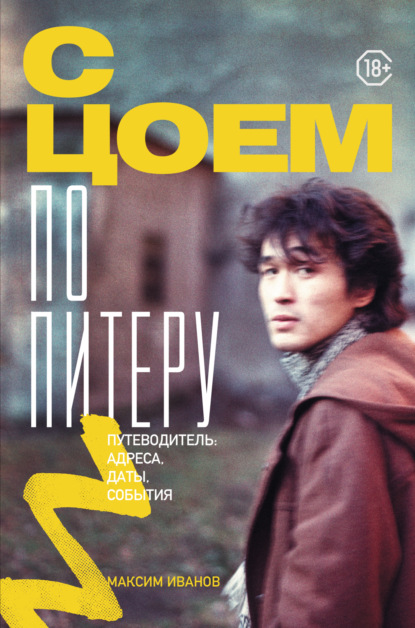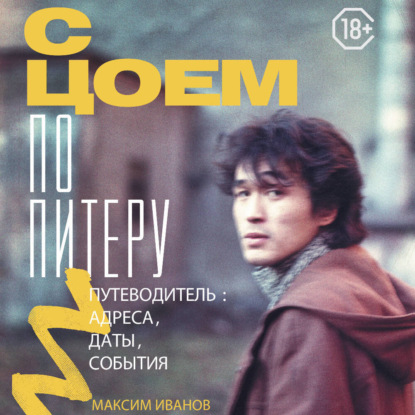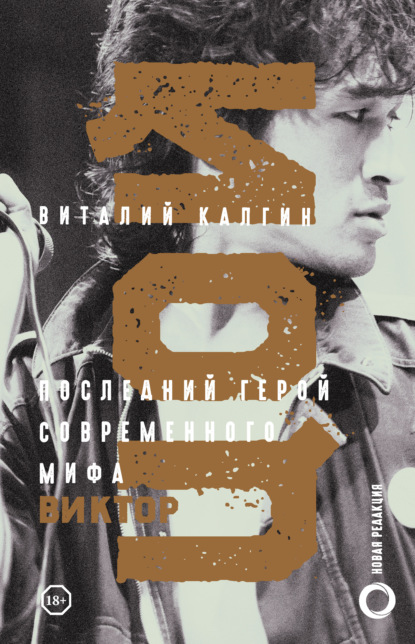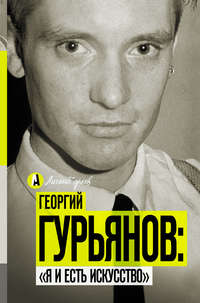Полная версия
Петербургские тайны «Господина оформителя». История культового мистического триллера с музыкой Сергея Курёхина
Полнометражный «Господин оформитель» впервые был представлен публике в декабре 1988 года в Риге.
Досъемки
Итак, что было доснято или переснято? Как рассказывал Олег Тепцов, в дипломной работе лес был обозначен схематично, а зрители должны были сами себе его дорисовать; в полнометражной картине режиссер эту сцену развернул – появились деревья.
Эдаким камертоном фильма стала начальная сцена с танцем мистиков – этот эпизод нужен был для того, чтобы показать, кто же таков главный герой, как он себя проявил. Этой сцены – по словам Тепцова, «четкой аллюзии на тему блоковского «Балаганчика», – в первом фильме также не было. «Что он вообще сделал? Хотел показать, кто он такой. Потому что дом его не видно, а как его еще представить, чтобы сложилось представление о его занятии?» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
В первом варианте роль матери Ани Белецкой исполняла Ирина Соколова, в полнометражной версии ее заменила художник, автор кукол Валентина Малахиева: «Там у нее даже тексты какие-то были, слова. Потому что во втором варианте кроме: “Ой, ваше превосходительство, а я уж думала, вы больше не придете, надуете!” – больше текста у нее нет» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Этот эпизод был полностью заменен во втором варианте. О первоначальных съемках этой сцены Тепцов вспоминал: «Мы влезли в чью-то декорацию, какую-то занавеску повесили, и что-то такое было, на скорую руку сляпанное. Как павильон, допустим, в фильме “Сон”. (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Оператор комбинированных съемок Олег Плаксин говорил, что в фильм не попал эпизод, где Платон Андреевич оформлял витрину: «Мы снимали на Большой Морской улице. Там, где из зеленого яхонта, кажется, из зеленого камня сделаны были колонны, но и сейчас этот дом стоит. Вот мы использовали витрину этого дома для того, чтобы туда потом впечатать изображение. Честно скажу, смотрел картину примерно год назад и этого кадра я не заметил. Довольно-таки много времени у нас ушло на съемку этих заготовок. Я помню, что мы там долго трудились и пытались из этого магазина сделать эту витрину, и мне казалось, что у нас тогда, в общем, неплохо все получилось. Ну, не вошло, так не вошло. Ну а что? Сколько всего, что мы делали, не вошло (смеется)».
Оператор Сергей Некрасов также вспомнил, что был эпизод, где кукла стоит в витрине на Большой Морской: «Я там “Окно в Париж” снимал, это голая сцена в бывшем доме Набокова. Там мы снимали эпизод с выступлением. Так что там два помещения есть – и там и там снимал, и поэтому, честно говоря, путаюсь, кто из них кто, они чуть-чуть по диагонали друг против друга стоят. Вот там мы снимали кабинет этого самого заказчика».
Полностью была переснята двухэтажная мастерская, которую построила художник Наталья Васильева в павильонах «Ленфильма» в Сосновой Поляне. По словам Тепцова, сделать ее можно было и получше, но все упиралось в отсутствие денег.
В первой версии, по воспоминаниям режиссера, в мастерской Платона Андреевича лежал всякий хлам, и было непонятно, какое это время, что за картины лежат и чьи они. Поэтому в полнометражной картине все это нужно было показать подробнее.
Случались на досъемках и казусы, связанные с тем, что приходилось дополнять некоторые ранее отснятые эпизоды. Соответственно, нужно было одеть и загримировать актеров так же, что получалось не всегда. Опять же, как в случае с Анной Демьяненко, играло роль и взросление актеров. Однако только очень внимательный зритель заметит, что, собственно, в кадре не так, поэтому нельзя не отметить филигранную работу съемочной группы.
«Нам как-то всегда везло: когда нам нужно солнце – было солнце. Даже в том эпизоде, когда она с бабочками, конечно, уже бабочек не было, было уже достаточно холодно, по-моему, осенняя была пора, – было солнце. И она вот в легком платье… А бабочек заранее готовили, они были в банке. С ними там проблема была. Нет, так по себе они не летали. Было холодно достаточно, и лето не было таким жарким. Эта сцена с бабочками осталась в большом кино. Кусочек еще подснимали. Если вы очень внимательно будете смотреть, то заметите разность длины волос. Потому что сменился гример и не угадали длину волос у нее», – рассказывала художник по костюмам Лариса Конникова.
Важный момент, который влияет на восприятие сцены с крайне напряженной карточной игрой, связан с кольцом. Платон Андреевич достал ювелирное изделие из кармана и за неимением денег поставил его на кон. Что же это за кольцо? Это отражено только в сценарии и дипломном фильме. Его тайно вложила в оранжерее в карман героя Авилова Анна-Мария. В полнометражной картине этот эпизод опустили. Возможно, Грильо узнал кольцо и все вмиг понял (это Козаков отыграл изумительно) – странно было бы, если бы он его раньше не видел у своей жены.
«В первом варианте именно так и было, он доставал кольцо. Это тоже был из тех вариантов, когда… я уже точно не помню, но мне кажется, что во втором варианте это было непонятно, что с этим браслетом. Что в принципе неплохо было. Но в первом варианте было так, что я опускаю ему кольцо [в карман] и он потом его достает и на него играет», – вспоминала Анна Демьяненко.
«Мне казалось, что это и в фильме было. Это в первом варианте точно было. Я просто сценарий совсем плохо помню, а материал я помню очень хорошо. И я точно помню, что это в материале было. А почему потом Олег это убрал – это вообще не к Арабову вопрос. Это что-то, значит, в той сцене, когда Аня-Мария кладет ему это кольцо, вот что-то его не устроило. Я это помню, он был снят 100 процентов, потому что я просто визуально эту картинку помню», – говорила Марина Баскакова.
Рука Платона Андреевича затряслась, когда он коснулся пальцами красной спинки…
В это время маленькая женская рука слегка коснулась бокового кармана пиджака художника и мгновенно исчезла, что-то оставив там.
– Позвольте мне, господа, испытать судьбу, – сказал Платон Андреевич, по возможности, решительно.
<…>
– Я бы не советовал вам играть, – угрюмо сказал Грильо, отводя глаза в сторону. – Кроме того, я играю на живые деньги…
Художник растерялся и машинально сунул руку в карман. Почти сразу вынул и некоторое время с недоумением рассматривал лежащий на ладони бриллиантовый перстень, словно стараясь что-то вспомнить.
(Арабов Ю. Солнце и другие киносценарии. С. 35–35).Также была доснята драка Платона Андреевича с куклой в мастерской. Сцены с камином и куклой, а также сцена с Грильо в гробу остались из первого варианта.
Съемки на Смоленском кладбище перекочевали во вторую часть полностью. Не вошли лишь небольшие куски.
По воспоминаниям Тепцова в книге Д. Мишенина «Реаниматор культового кино», совершенно заново был переснят эпизод с танцем куклы. В дипломной работе был брейк-данс с черным фоном и несколькими часами.
Как рассказывала мастер-костюмер Людмила Баранова, в фильм не вошел эпизод с прыгающей на батуте девочкой-гимнасткой, которая заменяла Анну Демьяненко: «Видимо, Тепцову пришлось урезать, чтобы в какие-то… не потому, что его заставляли, а ему нужно было в какое-то время уложиться. И он должен был сокращать. Много кусков я просто не увидела. Не увидела куски, когда Аня, точнее ее дублер-спортсменка, которая работала с нами, она заводит [себя]… Анечка ведь часы заводит, а мы брали спортсменку, которая на батуте прыгала. Здесь тоже есть, но тут маленький кусочек! А там она прыгала и прыгала! И очень долго прыгала. Ей надо завести было себя, чтобы кукла действовала как человек. Она заводила вот этим движением, и этого движения было больше. Потом почему-то вот этот кусок убрали. Ну еще какие-то куски – просто чувствую, что чего-то не хватает. Урезано».
Финальная сцена на мосту была в дипломной работе и частично осталась. Однако пересняли сам мост: подход остался из первого варианта, а вот переправа была другой. Многие удивятся, но это был не Большой Петровский, как утверждается в некоторых источниках.
«Вот фрагмент, когда машина на него едет, – машина была переснята. А когда он отходит, пятится от машины – это из первого варианта», – объяснил Тепцов. (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
По словам режиссера, в первом варианте практически не было комбинированных съемок: «Фильм в первой версии длился где-то час – час десять. Минут тридцать добавлено в новую версию, которая вышла на экраны. Принципиальная разница заключается в том, что первый вариант был более хулиганский, более короткий, сжатый, концентрированный. Потому что весь сюжет был рассказан. Концептуально второй вариант – это абсолютно та же самая картина» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Прямые затраты на производство составили 150 800 руб. Сэкономлено за счет сокращения сроков 8 221 руб. Коллегия Госкино СССР присвоила «Господину оформителю» первую группу оплаты.
«Госкино в то время определяло категорию фильма, что означало широту проката и, очевидно, оплату – об этом я не помнила. Выше первой категории только высшая. Фильмы Киры Муратовой и Алексея Германа часто получали третью категорию, что означало ограниченный прокат», – пояснила Марина Баскакова, добавив, что в «Господине оформителе» редким образом соединились эстетическая составляющая и коммерческий успех.
Из материалов дела № 517:
Невзирая на простои из-за занятости актера, исполнителя главной роли, и благодаря постоянной готовности к съемкам и мобильности режиссера-постановщика Тепцова О., а также слаженной работе всей съемочной группы, отсняв плановый материал, группа уложилась в 46 календарных дней против 50 планируемых, добившись высокой выработки в съемочную смену – 130,9 %.
18.02.88 фильм был принят руководством киностудии на двух пленках, а 22.02.88 был представлен в Госкино СССР и принят к выпуску на экран (письмо от 05.03.88). 16 марта 1988 года все необходимые материалы (11 частей, 2 991 метр) для перевода на одну пленку были переданы ОТК, фильм был закончен производством на 7 дней раньше планового срока.
Группа имела 6 целодневных простоев по причине отсутствия исполнителя главной роли артиста В. Авилова, что составило потерь на сумму 2 728 р.
Павильонные декорации строились в Сосновой Поляне, куда перевозилось и возвращалось обратно после окончания съемок значительное количество мебели и реквизита с Кировского проспекта.
«Господина оформителя» показывали в кинотеатрах страны целый год. По словам Олега Тепцова, потом прокат в СССР просто был уничтожен: «Но надо сказать, что показатели были феноменальные, если посчитать рентабельность этой картины. Они были фантастические. Если учесть все основные критерии: бюджет картины, количество копий, количество денег на рекламу – думаю, это была одна из самых кассовых картин того времени. Не в пересчете на количество, потому что там копий было девяносто. Немного, да, для того времени – очень немного. По тем временам просто меньше и не было» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Как утверждал режиссер, стандартный тираж в то время был 600 копий, а 90 копий «Господина оформителя» – это до 5 млн зрителей за первый год проката. При бюджете в 100 тыс. рублей сборы составили 2,5 млн. То есть проект в принципе можно считать коммерчески успешным.
По данным кинокритика Сергея Кудрявцева, всего «Господина оформителя» посмотрели 3,3 млн советских зрителей (Отечественные фильмы в советском прокате. kinanet.livejournal.com).
«Тогда был 1987 год, фактически первая ласточка подобного кино. Тогда было замечательное время – цензура упала в стране, а прокат был. То есть – “малина”! Это продлилось несколько лет, потом все, естественно, завернулось. И нам предложили для большого экрана сделать нечто более помпезное. И мы сделали вариант – час сорок – досняли эту картину, нагрузили ее тягучим ритмом арткино. Мы тогда все были озабочены тягучим ритмом, чтобы из тягучего ритма рождалось какое-то чувство странное. Сделали вот эту картину, и – бог ты мой! – она вышла в это благословенное время и по ленфильмовским сборам оказалась второй. Первой была какая-то, помню, картина Бортко… Может быть, я ошибаюсь… Или не Бортко… Какая-то была картина, “Блондинка за углом”. Может быть, я, честно говоря, путаю. Или “Школьный вальс” – что-то про нимфеток такое… А вторая – наша. Сборы! Хорошо! Ну, мы, естественно, ни копейки не получили со всех этих сборов, как обычно. Но елы-палы – здорово!» – рассказывает Юрий Арабов (интервью 2011 года, Лев Наумов. Homo cinematographicus, modus visualis. «Выргород», 2022).
По словам Олега Тепцова, практически полностью негатив короткого метра вошел в большую версию фильма. При этом сцены из дипломной работы, которые потом были пересняты, скорее всего, не сохранились.
«Я хочу сказать, что второй вариант мне очень не нравится, я его не люблю. Мне очень нравился первый вариант. Он был как раз сжатый, там было все понятно. Я так понимаю, что его никто нигде не видел, ну, по крайней мере, сейчас не найти. А во втором он [Тепцов] уже такой “сокурщины” дал, знаете… По мне так он просто пытался Сокуровым стать, когда начал все впихивать туда», – говорила Анна Демьяненко.
«Досняли несколько сцен, многое перемонтировали и… Фильм, на мой взгляд, стал гораздо хуже», – говорил Виктор Авилов («Я готов возглавить армию гоблинов». Интервью Алексея Белого. «Комсомольская правда», 03.09.2001).
«Господин оформитель» на экране, первые показы, премьера, реакции
Анна Демьяненко сказала, что премьеру фильма помнит плохо. Однако ей запомнилось то, как она в первый раз увидела на экране: «Я была в полном ужасе: “Неужели это я? Я такая ужасная, я такая страшная…”. Ну это когда мы смотрели не пробы, но… что-то отсняли – они потом смотрят, я приходила. Только потом, наверное, по прошествии 10–15 лет после съемок фильма, когда я посмотрела, вот тогда я уже подумала: “Блин, я была такая молодая! Такая хорошенькая!” Я себя ненавидела, то есть этот вот грим, который тек а-ля Вера Соловей (имеется в виду актриса Елена Соловей (р. 1947). Она сыграла прототип Веры Холодной Ольгу Вознесенскую в фильме Никиты Михалкова «Раба любви» (1975). – Прим. авт.), кстати, с которой я потом познакомилась в Америке, потому что у нее в Нью-Йорке или в Нью-Джерси школа для маленьких деток русских (детская творческая студия «Этюд» для детей из русскоязычных семей. – Прим. авт.). У меня дочка туда ходила даже какое-то время. И мне все это так не нравилось, когда я на себя смотрела. Думала: “Ух! Кошмар”».
«По-моему, премьера была на “Ленфильме”, а не в кинотеатре. Конечно, музыка Курёхина – шедевр. “Воробьиная оратория”… Очень такое действенное все, мощное», – вспоминал шумооформитель Сергей Фигнер.
По словам редактора Марины Баскаковой, первый показ на «Ленфильме» – это не премьера, а первый просмотр для худсовета: «[Показ в Доме кино] обычно через несколько месяцев. То, что показывают на “Ленфильме”, это принимает худсовет “Ленфильма”, а дальше это идет в Москву. Генеральным заказчиком было государство, и как его представитель – Госкино СССР. И вот, собственно, Госкино фильм и принимал».
Про худсовет подробно рассказывал оператор Сергей Некрасов: «Чем меня пленял “Ленфильм” – это были показы с двух пленок. То есть, когда фильм был сделан, назначался день, об этом объявлялось, забивался полный зал, и там показывался фильм с двух пленок. Что такое “с двух пленок”? Это пленка звуковая, которая была шириной 35 миллиметров, и пленка, которая к тому изображение: рабочий позитив, который елозили на монтажном столе по тысяче раз. Он был весь в склейках, переклейках, в царапинах. Звук был соответствующий такой, музыки не было. И вот вся студия смотрела фильм, потом его, естественно, шла обсуждать. Назначалось сразу же совещание такое, и я все время старался туда пролезть. Страшно интересно было обсуждение: выступали редакторы того объединения, где он был, выступал режиссер, выступали вообще все люди, – это худсовет назывался. Большой худсовет. И что-то я где-то попадал, но “Господина оформителя” не помню, чтобы я там был. И это тоже такое действие. Получалось, что у режиссера это был такой предпросмотр, но потом типа можно переделать, а тут и должен, и можно было тоже переделать картину. Человек мог перемонтировать, что-то переделать и что-то доснять, что-то переснять – давали такие возможности. Если мы чувствовали, что фильм станет лучше или может быть его как-то исправить. Так что вот худсовет тоже был один из каких-то… Ну и потом просто жу-жу-жу, все шли в кафе кофе пить – кто что, и обсуждали фильм».
Художник Светлана Еремина, авторству которой принадлежат графические работы в «Господине оформителе», запомнила первый просмотр на «Ленфильме»: «Там маленький кинозал – не очень большой, и в этой атмосфере мы смотрели. Он произвел впечатление на всех, кто смотрел. Меня музыка вот эта просто… вот эти все фигуры, которые там в простынях, их движения, все…».
Когда Еремина увидела свои работы на экране, то, по ее словам, чуть с ума не сошла: «Отдала эти ватманы в папочке, думаешь: “Как это будет? Что?” Как они все это снимали я не видела: папку принесла, отдала – все забрали. И там вдруг!.. Я-то начала с “такого” (имеются в виду маленькие фото, с которых Еремина делала увеличенные в разы копии для фильма. – Прим. авт.), потом сделала “такое”, и там вдруг это по экрану плывет… Это в первый раз было, сам себя не отождествляешь с этим, это живет своей жизнью».
«И когда весь материал режиссер собрал, я опоздала на просмотр. Хотя нас всех пригласили. Я заскочила туда, откуда показывают… Проекторная? Мне неудобно было в зал заходить. И я в окошечко это маленькое смотрела, у меня ватные ноги были – мне казалось, что я все очень плохо сделала, что у меня ничего не получилось и меня сейчас вообще растерзают после этой картины. А без звука я смотрела, потому что звук там, а я здесь в тишине полной», – признавалась художник по костюмам Лариса Конникова.
«После первой дипломной работы у нас была такая, как мы называем, “шапка” в Доме кино. И все пришли, и Курёхин, и все были. Это такая радость была, потому что, во-первых, Курёхин действительно потрясающую музыку написал. А он же очень легкий человек, очень такой обаятельный… Я почему-то очень хорошо помню, как мы все сидели, все это обсуждали радостно и как прочили Аньке хорошее будущее, и пытались затащить ее в театральный, она, по-моему, поступала несколько раз. Готовили ее», – рассказывала гример Тамара Фрид.
Прокатчики представляли «Господина оформителя» как фильм ужасов, что было, конечно, в корне не так. По словам Марины Баскаковой, картину отнесли к жанровому кино, но гораздо точнее к ней подходит определение «мистический триллер»: «Просто иногда, назвав фильм, допустим, в этом случае фильмом ужасов, и приклеивали ту этикетку, которая, может быть, на 100 процентов не отвечала содержанию, но зато давала тот фильтр, через который на него смотрели снисходительно. Вот это вполне могло быть. И даже это могло быть от наших опытных идеологов, которые знали, что вот в этом случае лучше немножко под другим ракурсом показать начальству, и тогда к этому отнесутся более снисходительно и не будут особенно придираться, а зритель уже сам разберется, что и как. А может быть, даже какие-то лишние сотни или тысячи просмотров благодаря этому будут».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.