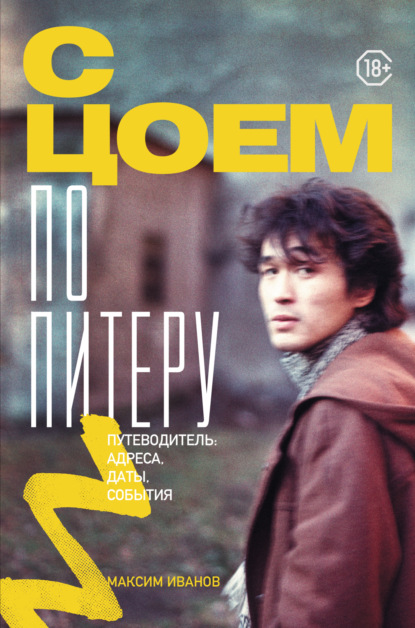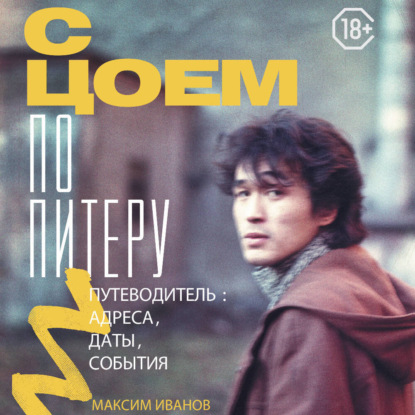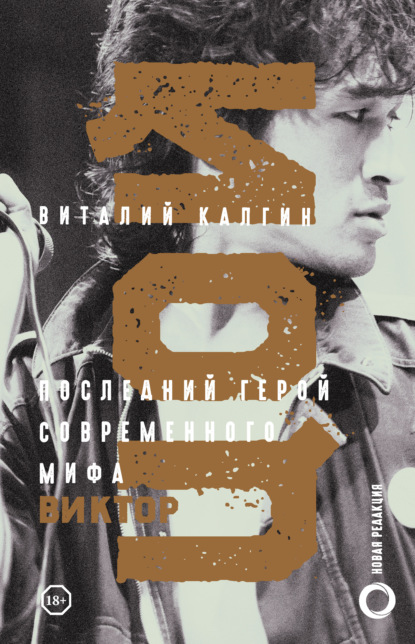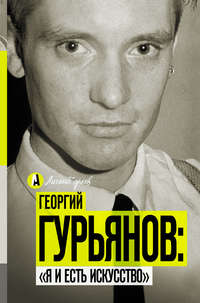Полная версия
Петербургские тайны «Господина оформителя». История культового мистического триллера с музыкой Сергея Курёхина
Исполнителю роли слуги Ивану Краско поначалу было невдомек, кто написал «Господина оформителя» и что послужило основой для создания сценария: «Я честно скажу, что потом только узнал, что это по Грину и что Арабов – автор сценария. У меня вообще тогда представление о кино в те годы было такое, что… Я удивился, что переделывают классику или по мотивам делают фильмы, в сценарии вольности всякие. Я считал, что раз есть такое произведение, как “Тарас Бульба”, например, так так и есть! Так и есть! “Тараса Бульбу” я еще в школе изучал, там мне было все интересно. Поэтому когда Бортко пригласил (в фильм “Тарас Бульба”, 2009 г. – Прим. авт.), я сразу говорю: “А кто автор сценария?”. Таким подъездом к нему. А он говорит (долгая пауза): “Я” (смеется)».
Из дела № 454 (архив ЦГАЛИ):
Сценарное дело по «Господину оформителю» начато 05.05.86, окончено 07.07.88 (33 листа).
Заявление директору «Ленфильма» Хохлову Ю.И. от директора Высших двухгодичных курсов сценаристов и режиссеров И. Кокоревой:
«Уважаемый Юрий Иванович, сообщаем Вам, что Совет курсов утвердил литературный сценарий Ю. Арабова “Господин оформитель” (по мотивам рассказа А. Грина “Серый автомобиль”) для дипломного фильма О. Тепцова.
Просим заключить договор с автором сценария. Производство дипломного фильма осуществляется в соответствии с положением о порядке выполнения дипломных фильмов, утвержденным приказом Госкино СССР от 16 июля 1980 г. № 298.
Обращаем внимание на то, что средства, выделяемые на производство дипломного фильма, не должны превышать 50 тыс. рублей.
Художественным руководителем дипломного фильма О. Тепцова назначен кинорежиссер В.В. Мельников. Убедительно просим Вас оказывать всяческое содействие т. Тепцову О.П. в его работе над фильмом.
5 мая 1986 г.»
Типовой сценарный договор был заключен 3 июня 1986 года. Разработка режиссерского сценария проходила с 11 июня по 10 июля 1986 года.
Из приказа № 545 от 11.06.1986 (и.о. директора киностудии «Ленфильм» А. Голубев):
Разработку поручить
и. о. кинорежиссера – О. Тепцову
кинооператору-постановщику – А. Лапшову
и. о. художнику-постановщику – В. Зелинской
директору картины – В. Кутикову.
Редактором фильма назначить М. Баскакову. Режиссерский сценарий представить на утверждение 7 июля 1986 г. При разработке режиссерского сценария исходить из длины фильма 560 полезных метров. Утвердить смету на период разработки режиссерского сценария в сумме 776 р.
Вера Зелинская (1944–2021), которая должна была стать художником-постановщиком, в итоге участия в картине не принимала. Тогда она работала над фильмом «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
По словам Олега Тепцова, «Господин оформитель» «родился» в боевой обстановке – в то время он занимался ремонтом квартиры и монтажом керамических панно: «И сценарий дописывался “Господина оформителя”, режиссерский еще писался. Потому что у меня была беременная жена, и нужно было ремонтировать квартиру, чтобы ребенок родился. <…> Нужны были деньги, поэтому я устроился монтажником керамических панно в Ставрополе, в Череповце, в Шушенском, и здесь под городом были такие огромные, пятнадцать на двадцать метров керамические панно на стенах домов» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Как отметил Олег Тепцов, по сути, в то время он и был этим самым «господином оформителем». Притом что у него есть справка, где указано, что он – художник-оформитель.
По словам Марины Баскаковой, сценарий был очень короткий, и если все диалоги сложить, то получится всего-то пять-десять страничек: «Там нет подробных каких-то диалогов. Фильм мне так близок, потому что совпадает с моим вкусом. Редактор должен умирать в режиссере (смеется). Но это был тот случай, когда соответствует моему художественному представлению тоже, то есть я не очень люблю разговорное кино – мы с Олегом в этом смысле очень были близки в плане восприятия Тарковского (Андрей Арсеньевич Тарковский (1932–1986), режиссер театра и кино. – Прим. авт.) и так далее. Изобразительный и звуковой образ важнее, чем диалоги, чем фильмы такого классическо-драматического направления».
Юрий Арабов не отрицал, что «Господин оформитель» – это попытка сделать «умный коммерческий фильм», по существу проверить возможность и такого сочетания: «Я не умел, никогда не писал жанровых вещей. Режиссер Олег Тепцов вообще “не умел” снимать кино – это его первая работа с пленкой. Нам показалось заманчивым использовать принцип “саспенс”, который в классическом варианте присутствует у Хичкока, а у нас практически не применяется. Он, этот принцип, предполагает дозу абсурда, изначальное чувство непознаваемости бытия. Мы выбрали атмосферу начала века, ситуацию кризиса, которая в общекультурном смысле не изжита до сих пор, использовали характерные для эпохи декаданса образы. Например, монстр, придуманный художником и убивающий самого художника. Или многочисленные двойники, предсказатели будущего, о которых как о реальных лицах пишется, например, в мемуарах В. Ходасевича». (Елена Митюшина. «Советский экран». № 14.07.1987).
На вопрос Митюшиной, идут ли авторы «Господина оформителя» по пути Хичкока, у которого «страшное разлито в самых обыкновенных кадрах, а сами “ужасы” даже смешны», Арабов ответил так: «Сходным, но с некоторыми сдвигами. Хичкок, кроме таланта, обладал мощным орудием психоанализа. Мы же сформировались в русле традиционного психологизма. Это приходится учитывать».
Сценарий Арабова «Серый автомобиль» («Господин оформитель») очень интересен сам по себе как отдельное произведение. Он, как отмечали некоторые кинокритики, вполне работает и без экранизации. Поклонникам фильма Тепцова стоит прочесть оригинальный сценарий, поскольку там много эпизодов, так и не вошедших в картину. Автору этих строк, например, было очень интересно – must have, что называется.
Например, на экран не попал диалог Платона Андреевича со «смертью с косой» за кулисами театра, сцена в «Танцевальном зале», где некий толстяк измывается над ребенком, эпизод в оранжерее, где раскрывается то, как зарабатывает Грильо (это есть в дипломной работе), и т. д.
В сценарии также можно заметить различия в местах жительства главных героев. Так, в оригинале у Арабова Платон Андреевич живет на Литейном, а дом Грильо находится на Елагином острове. Впрочем, это все придирки, поскольку в самом фильме и не говорилось прямо, что вот-де художник обосновался на Галерной, а делец Грильо – на Каменном острове.
Съемки
Дипломная работа
Подготовительный период к постановке дипломной работы Олега Тепцова проходил с 11 июля по 10 августа 1986 года. Была утверждена смета расходов подготовительного периода в сумме 9,5 тыс. рублей (из приказа № 754, 15.07.1986).
К съемкам приступили 11 августа (2 части, 560 погонных метров пленки). Датой окончания съемок значится 2 сентября 1986 года. На это было выделено 21,7 тыс. рублей. Общая же длительность постановки фильма составила 2 месяца 19 дней со сроком окончания 29 сентября 1986 года. Сметная стоимость постановки – 50 тыс. рублей (из приказа № 874, 22.08.1986).
По воспоминаниям Олега Тепцова, дипломную работу сняли всего за пятнадцать съемочных дней. Совет Высших курсов сценаристов и режиссеров принял ее 20 ноября 1986 года. Оценка – «отлично». «Совет выразил уверенность в том, что в лице О. Тепцова киностудия обретает интересного кинорежиссера, владеющего средствами кинематографической выразительности, а также явно тяготеющего к работе в музыкальном и приключенческом жанре. Документы на тарификацию О. Тепцова направлены в Госкино СССР», – говорилось в вердикте директора ВКСР Ирины Кокоревой.
Сегодня дипломная работа Тепцова – эдакий фантом. Ее нет в интернете, она не продается на дисках. Сам режиссер никому ее не показывает, считая, что в этом нет смысла. С ним согласен и звукорежиссер фильма Александр Груздев: «Дело в том, что как у художника у тебя есть отношение к своему произведению как к ребенку у отца. И поэтому я бы то же самое сделал. Абсолютно. Какого интереса вокруг этого ни было бы, меня это, собственно, не колышет. Есть процесс, который тебя приводит отсюда досюда, и он к тебе имеет глубокое отношение. Разделять его с публикой у тебя нет никакого желания. И я это очень понимаю. Зачем это делать? Потом, когда все помрут – you don’t care, потом все нормально. Пока ты жив, ты хочешь выглядеть так, как ты хочешь выглядеть, правильно? И это твое решение. Поэтому я сто процентов это понимаю со всех точек зрения».
«В первом варианте на самом деле, с моей точки зрения, была совершенная свежесть, можно так сказать, жанровая, и непохожесть вообще абсолютно ни на один фильм так называемой ленфильмовской школы, которая тяготела к реалистичности. То есть совершенно другая стилистика. Не случайно у нашего Первого творческого объединения худрук был сначала Хейфиц (Иосиф Ефимович Хейфиц (1905–1995), режиссер, сценарист, педагог. – Прим. авт.), потом Авербах, то есть это школа реалистичного и лиричного кино. Интеллигентская школа, совершенно замечательная, академическая, конечно, а это (“Господин оформитель”) было что-то новое. И главное, что это было, с одной стороны, питерское, а с другой стороны, в нем было больше жанровости, наверное, чем… Вот я не очень помню таких жанровых фильмов в нашем объединении. Если они и были, то это какие-то классическо-исторические фильмы. А в нем была такая свежесть совсем нового взгляда. Тут даже дело не в академизме – все-таки это не то слово, у нас на самом деле объединение было, с другой стороны, очень разнообразным. Главный редактор Фрижета Гургеновна приглашала совершенно разных режиссеров, не случайно даже Кира Муратова (Кира Георгиевна Муратова (1934–2018), режиссер, сценарист и актриса. – Прим. авт.) у нас сняла один фильм – ну какой у нее там академизм? Кстати, с Кирой мы тоже дружили, я очень ее любила», – говорила редактор Марина Баскакова.
По ее мнению, дипломная работа получилась очень яркой, однако в ней было много ученического – и в том, как Тепцов работал с актерами, и во всем остальном.
Баскакова вспоминала:
«Можно сказать, что у Олега потенциал был выше, чем то, что ему удалось сделать в первом варианте. Он нашел новые визуальные какие-то вот образы, и актеров… Всю вот эту ткань такую свежую оно имело, но той глубины не было в этом фильме. В нем был какой-то такой элемент ученичества. Я его так воспринимала.
[Полный метр ближе] абсолютно. Кроме того, именно на этом этапе мое участие было, я считаю, достаточно существенным. Как раз в этот период мы с Олегом очень-очень много разговаривали о том, что нужно сделать, чтобы эта история стала полноценной. Обросла, – не люблю вот этих всяких сравнений гастрономических, – мясом каким-то. Можно сказать, что первый вариант был как скелет, я говорю, что не люблю этих сравнений, но ничего более элегантного в голову не приходит. А дальше, чтобы это обросло мясом, собственно, там не требовалось нового сценария, даже особо новых эпизодов не требовалось, там требовались просто какие-то небольшие очень ювелирные дополнения, которые бы помогли главного героя показать, что это не просто какой-то там проходной, непонятно откуда взявшийся художник, а придать ему и объем, и статус.
И вот тогда как раз и начались поиски и разговоры о том, что же он за художник, что он сделал. Ну а как иначе? Просто же каждый персонаж должен иметь свою полноценную историю. И даже если эта вся история не входит в фильм, но если мы ее знаем, то она в каких-то разных небольших деталях будет считываться зрителем. Это вот и есть глубина, этот замысел становится не плоскостным, а более объемным – это мне больше нравится, чем “скелет и мясо” (смеется). Тогда как раз появился, во-первых, музыкальный пролог, фотография, где он [Платон Андреевич] с Блоком. Это надо еще проверить, но, по-моему, это появилось на втором этапе. Мы тогда наращивали этот объем. И этот пластический этюд, который все задавал, был как прологом этой истории, и, по существу, давал предысторию, относящуюся к 1908 году, того, что такое был этот художник в те годы. То есть какую-то историю задали, задали какой-то статус его, какой-то объем, а дальше – что он рисует, что он делает, чем он занимается. Тогда появилась идея живописных вставок.
Я, по-моему, даже не настаивала, а советовала… С Олегом очень интересно было работать, потому что он, во-первых, человек интересный, и, во-вторых, просто так получилось, что мы действительно говорили на одном языке, у нас было понимание. Я улавливала то, что ему бы хотелось, я могла ему чем-то помочь, потому что мне казалось, я знала иногда, как это можно реализовать. Я не считаю, что редактор вообще должен в какой-то области что-то исправлять, он должен помочь автору или режиссеру в данном случае дораскрыться. Создать какую-то такую и атмосферу, и понимание, и поддержку его собственных идей, которые подтолкнут его к тому, чтобы он принял какое-то правильное решение. Потому что только режиссер сам может принять это решение. Поэтому я не могу сказать наверняка, как это случилось, что мы привлекли целый пласт западноевропейской символической живописи, которая появляется в фильме. Там Одилон Редон, там Франц фон Штук…».
Марина Баскакова отмечала, что тогда ей казалось, что ученической работой первый вариант «Господина оформителя» делало еще и то, как вели себя актеры в кадре: «Ну какая-то она плоскостная очень была, пока… И уже только, мне кажется, потом удалось такое мощное туда дыхание внедрить, а плюс к этому еще вот оказалось попадание во время».
Впрочем, тут мнения среди участников съемочного процесса несколько разделились.
«Полнометражный фильм я недавно посмотрела с удовольствием. Хотя тот маленький был действительно очень острый, он был ярче. А здесь уже немножко больше всяких подробностей», – говорила гример Тамара Фрид.
Оператор фильма Сергей Некрасов «все» понял после первого просмотра: «Тогда он находился на каком-то пике. Я помню, когда я пришел на звук первого варианта и услышал эту музыку… В общем, конечно, я Тепцова бросился поздравлять. Там еще с двух пленок же показывали… И уже это было видно, что это – произведение. Я помню, мы побежали куда-то там (смеется) – алкоголя мало. Где-то алкоголь купили, где-то встали, потом к нему поехали и там что-то такое… В общем, было ликование, и восторги».
«Господина оформителя» показали в 1987 году на фестивале «Молодое кино Ленинграда», который проходил в кинотеатре «Аврора». Диплом был принят на «ура», а режиссеру предложили превратить короткометражный фильм в полноценную картину на студии «Ленфильм».
Полнометражное кино
Что собой представляли съемки полного метра «Господина оформителя»? Грубо говоря, это были досъемки того материала, который уже существовал. Много сцен из диплома перекочевали и во вторую картину.
«Показали этот вариант Армену Медведеву, в то время – главному редактору Госкино. Фильм ему понравился, и он сказал: “В прокат!” Тепцов говорил: “Не дай бог, там двух-трех связок не хватает”. Армен ему: “Доводи до ума”, и на это дал уже двести пятьдесят тысяч. Но тут-то фильм и испортился – наснимали много лишнего», – рассказывал Авилов (Сергей Шведов. Журнал «ТВ Парк», 13.07.1998, teatr-uz.ru).
По словам актера Константина Лукашова, главным сторонником превращения дипломной работы в полнометражную картину был Владимир Венгеров – режиссер, сценарист, актер, руководитель III Творческого объединения «Ленфильма» (1920–1999. – Прим. авт.). Редактор Марина Баскакова и вовсе предположила, что в этом может быть заслуга Нелли Машенджиновой.
«А второй – там были какие-то очень короткие съемки. В основном, я помню, мы снимали в павильонах. И небольшие досъемки на натуре были на острове, по-моему. <…> Что там было доснято, я не помню», – рассказывал Тепцов (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Тем не менее переснято было немало сцен. Приход Платона Андреевича в дом с больной Анной Белецкой, все сцены внутри мастерской художника, эпизоды с ювелиром, беседа в оранжерее, частично сцена с картами, сцена в карете, сцена с танцем Анны-Марии, частично финальная сцена на мосту.
Директор Вениамин Кутиков был одним из тех, кто перекочевал из дипломной работы в полнометражную картину. По словам режиссера, Кутиков согласился участвовать с такой формулировкой: «Ладно, давай мы придумаем что-нибудь».
Олег Тепцов: «Конечно, у нас были очень жесткие договоренности. Он сказал: “Только одно условие – количество съемочных дней. Мы высчитаем максимально, потому что это самое основное. Остальное я тебе как-нибудь организую”. Ну и, естественно, какие штаны у актера, какие брюки, какие стул, стол – там все это не учитывалось» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Режиссер вспоминал, что в одной из смен снималось порядка 250 полезных метров, а норматив был – около 40. Тогда Виктор Авилов опаздывал – он должен был уезжать в Москву, поскольку наутро у него уже был спектакль в Театре на Юго-Западе: «В выходные, летом, и отпуск у него был какой-то. Все в секретном таком, быстром режиме… И вот он опаздывает на поезд, я говорю: “У нас еще не доснято три метра. Если он уедет – мы вообще не доснимем”, и говорю: “Все уже, снимай, включай камеру, Лапшов!” (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
В результате сцена (какая именно, не раскрывается) получилась достаточно «бодрой». Как отметил режиссер, в кадре спешка тоже видна: ритм другой, артист играет совершенно иначе. Интересно, что Виктору Авилову нравился подход Тепцова снимать быстро: «Мне близки темпы работы Тепцова, потому что и в нашем театре мы все делаем очень быстро (порой за восемь-десять дней и ночей бывает готов спектакль. – Е. С.)» (Елена Смирнова. Феномен Виктора Авилова // Советский экран. № 7. 1988.).
По словам редактора Марины Баскаковой, доработка фильма не касалась сценарной основы: «Это была ювелирная работа по дополнению и корректировке нюансов. А главная работа коснулась аудиовизуального ряда».
Обращение директора «Ленфильма» Хохлова к первому заместителю председателя Госкино СССР Н.Т. Сизову датировано 17 февраля 1987 года. В нем говорилось, что полезный метраж картины составит 2,5 тыс. метров, общий срок постановки – 7 месяцев 20 дней, подготовительный период – 2 месяца, а съемочный – 1 месяц 11 дней.
На монтажно-тонировочный период отводилось 4 месяца и 9 дней. Режиссерская разработка и подготовительный период к съемкам были запланированы в одни и те же даты – с 5 мая по 4 июня 1987 года. Стоимость фильма в отпускных ценах – 290 тыс. рублей.
В обращении директора «Ленфильма» Хохлова говорилось: «Оригинальная по жанру, яркая по форме картина, затрагивающая серьезные и вечные проблемы поиска художником своего места в жизни. Профессионализм молодого режиссера, владение пластикой кадра, интересное музыкальное решение картины были отмечены Художественным советом 1-го Творческого объединения киностудии “Ленфильм”. Фильм получил высокую оценку Совета высших режиссерских курсов при Госкино СССР, рекомендовавшей его к выходу на союзный экран. На смотре-конкурсе молодых кинематографистов в г. Алма-Ата фильм “Господин оформитель” получил приз за лучшую режиссуру полнометражного фильма и приз за лучшее музыкальное решение темы фильма. Интерес киностудии “Ленфильм” к этой работе вызван еще и тем, что кинокартина “Господин оформитель” является первым этапом в разработке нового для советского кинематографа жанра – по аналогии с так называемым триллером, но на материале отечественной истории. Просим разрешить запуск фильма “Господин оформитель” в режиссерскую разработку».
«Господин оформитель» включили в тематический план «Ленфильма» на будущий год 13 марта 1987 года, а в производственный – 13 июля.
Как вспоминала редактор Марина Баскакова, дипломных работ, которые потом превращались в полноценные фильмы, в то время было немного. Одними из таких были «Одинокий голос человека» Сокурова и «День ангела» Сельянова и Макарова. Однако в обоих случаях речь о досъемках не шла – были только подогнаны технические параметры для полноценного проката. И в «Дне ангела» Герман еще доозвучивал монолог одного из героев в начале фильма.
Заключение Первого творческого объединения по литературному сценарию Арабова от 15 мая 1987 года:
Работа над сценарием, проведенная с учетом тех недочетов, которые существуют в дипломной картине, шла, по мнению участников обсуждения, в верном направлении. Она коснулась в первую очередь начала – экспозиции.
Теперь главный герой сценария – художник Платон Андреевич более точно заявлен и с точки зрения его профессиональных устремлений, и с учетом моментов, связанных с нравственно-этической стороной его деятельности. Уточнился ряд подробностей в поведении художника в объекте «Мастерская», планируемого к пересъемке.
Автор вместе с режиссером подробно описали направления предстоящей работы в приложении к литературному сценарию. Участники обсуждения, одобрив эту программу, особенно отметили, каким важным звеном будущей работы может стать использование живописи в изобразительном ряду картины.
Художественный совет Первого творческого объединения рекомендовал в процессе дальнейшей работы на следующих стадиях учесть в первую очередь те из соображений, высказанных в процессе обсуждения, что смогут уточнить характеристику художника, укрепить жанровую специфику сценария (как то: фатальность девочки, ставшей прообразом для манекена в жизни художника), а также обогатить образ времени – в основном за счет изобразительного ряда.
Подпись под заключением: главный редактор ПТО В.С. Шварц.
Протокол заседания творческого объединения от 17.06.87 под председательством Ф.Г. Гукасяна:
Баскакова выделила основные три аспекта доработки фильма: пролог, пересъемка объекта «Мастерская художника»; введение в картину изобразительного материала (живопись, графика). Цель – обогащение образа художника.
Юрий Мамин: Сценарий любопытен. Введение культурного пласта начала века (живопись, театр, музыка, поэзия) значительно обогащают сценарий. Возможны сокращения диалога.
Винокуров Н.: Нужен ли финальный титр?
Головань И.П.: Финальный титр упрощает.
Ю.В. Павлов: Титр о войне не подготовлен.
Даты подготовительного периода, как следует из приказа № 724а от 13.07.87, сдвинулись – его нужно было провести с 14 июня по 13 сентября. Режиссерский сценарий одобрили 6 июля.
К съемкам приступили 24 сентября, а уже 26 ноября 1987 года Первое творческое объединение посмотрело вновь отснятый материал.
По словам Олега Тепцова, стандартный бюджет на полнометражный фильм был 420 тыс. рублей. На дипломную работу выделено 50 тыс., на полноценное кино, конечно, добавили: «В итоге, конечно, получилось больше. На второй они добавили денег. То ли еще пятьдесят…» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).
Как отмечала Марина Баскакова, создателям фильма удалось найти пластический образ того, что происходит с Платоном Андреевичем. Это как раз к словам об «обогащении образа художника».
«…Вот эта вот вся живописная ткань, какие-то, можно сказать, вставные вещи условно, хотя они стали совершенно не вставные, а вплетенные в монтаж. Совершенно блестящий монтажер Ирина Гороховская! Просто блестящий монтаж! Тогда же это все собиралось по кадрикам на пленке. Сейчас бы, я уверена, что это отдельно бы отметили, если бы о чем-то таком шла речь, потому что вплетены такие вот вещи, и они дали этот весь объем. Он [Платон Андреевич] мыслит, конечно, образами.
А как тонко получилось, когда сбегает Анна-Мария, и вдруг у него идет уже не ретроспекция, а предчувствие будущего, предчувствие финала? Я сейчас пересматривала и поняла, что это как бы начало финала. В мастерской, когда между ними происходит эта сцена, оживают манекены, а дальше он сидит в углу – наверняка раньше он сидел просто, а вот здесь – это вот так тонко, я не помню, как это появилось… Когда идет вставка этого экипажа, который будет ехать по мосту на него. Если до этого были ретроспекции, такие вот черно-белые воспоминания из этого времени, которые сейчас, в 1908 году, то это, наоборот, идет предчувствие, футуроспекция (освещение будущего, взгляд в будущее. – Прим. авт.) (смеется). Такие вот вещи, из них, собственно, складывается эмоциональное восприятие фильма.
Часть из этих моментов [которые заново открываются с каждым просмотром] случайные, на интуитивном уровне. Потому что не было еще тогда у Олега такого мастерства, чтобы это все, может быть, предчувствовать. Мне так кажется. А уж смена композитора, которая просто сделала фильм…» – говорила редактор.