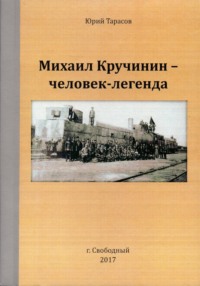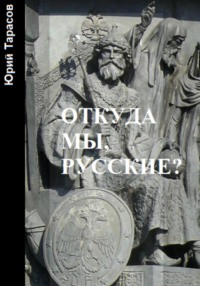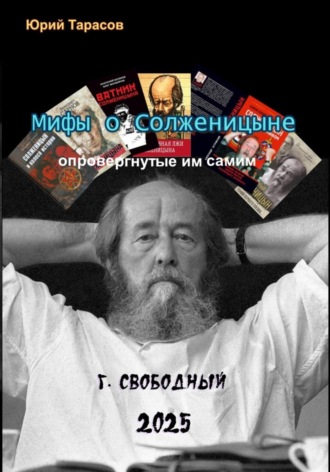
Полная версия
Мифы о Солженицыне, опровергнутые им самим
5. С детства же – антисемит.
6. С детства же – патологический честолюбец.
7. Трус. «Самый трусливый человек, которого когда-либо знали».
8. Вор.
9. Развратник .
10. Писатель-предатель.
11. Сел в тюрьму нарочно: хитро подстроил собственный арест в конце войны.
12. Старался засадить в тюрьму друзей и знакомых (но КГБ никого не тронуло из доброты и мудрости).
13. Весь лагерный срок – ретивый стукач.
14. Лицемерно искал одиночества под предлогом писательства.
15. Все книги, особенно «Архипелаг», написаны из злобы и честолюбия.
16. «Для солженицынского литературного метода типична конъюнктурная ложь».
17. Мерзким трюком соблазнил почтенное КГБ захватить свой литературный архив.
18. Подлым приёмом уклонился от поездки за Нобелевской премией.
19. Хитрым манёвром вынудил КГБ захватить спрятанный «Архипелаг» – и так заставил выслать себя из Советского Союза.
20. «Во всём, что говорит и пишет Солженицын, проявляются верные признаки душевной болезни. Представляет интерес лишь для психиатра». (Последний диагноз – был бы очень подходящий, только до высылки.)
Далеко-далеко ещё не все результаты исследования, но главные – тут».
Как видим, здесь представлены почти все современные мифы о Солженицыне. Это и есть их главный источник. Остальные «антисолженисты» в основном лишь добавляли к ним новых красок. Но, вновь предоставим слово Солженицыну.
«С тех пор, как марксистское мышление стало господствующим в нашей стране, техника опорочения всегда начинается с родителей и прародителей. Этому рецепту следует и Сума. Однако по материнской линии не так привяжется, фамилия не та, и потому Сума минует деда по матери, Захара Фёдоровича Щербака, действительно богатого человека (впрочем, пастуха из Таврии, разбогатевшего на дешёвых арендных землях северо-кавказской степи) и которого, действительно, на Кубани в округе многие знали со стороны щедрой и доброй (после революции 12 лет бывшие рабочие его кормили). А всё имущество его – 2 тысячи десятин земли и 20 тысяч овец, приписывает деду по отцу, Семёну Ефимовичу Солженицыну, рядовому крестьянину села Саблинского, где таких богатств и не слышали никогда, и приписывает ему же 50 батраков (ни единого не было, с хозяйством он управлялся сам и четыре сына): «человек, прославившийся своей жестокостью далеко за пределами собственного поместья» (то есть хутора, а жестокостью – к своим детям? к домашним животным?), «крупный землевладелец, который мог позволить себе всё» (и что же именно? оказывается: отдать младшего сына в гимназию, потом отпустить в университет, – всё та же дремучая легенда, что в России учиться могли только дети богачей, а в России учились многие тысячи «медногрошёвых» и многие – на казённое пособие).
Но – что бы ещё о нём солгать? – ведь всё-таки дед по отцовской линии – это славное будет пятно. Но – что солгать о старом крестьянине, не выезжавшем из своего села? И сочиняет гебистский коллектив: «После Октябрьской революции он долго скрывался и затем исчез бесследно».
Ври на мёртвого! Семён Солженицын как жил в своём доме, так и умер в нём – в начале 1919 года. В Саблю Сума не ездил (туда дорога очень тряская), не узнавал: менее чем за год семью Солженицыных тогда посетило четыре смерти (беда по беде как по нитке идёт) – они начались со смерти моего отца 15 июня 1918 года, и в этой быстрой косящей полосе выхватили другого сына, Василия, и дочь Анастасию, и старика-отца.
В семью Солженицыных настолько Сума не вникал, что даже не знает ни имён братьев отца, тем более сестёр, ни – сколько их было. Но о каком-то брате, «мне к сожалению не удалось установить ни даты его рождения, ни даже его имени», пишет: «он был бандитом. Выходил на большую дорогу, чтобы грабить путников и повозки. Никто никогда не узнает, как он кончил». Впрочем: «это лишь неподтверждённое предположение» (стр. 24).
Ай, Сума, но зачем же неподтверждённое предположение в такой научной книге? Ведь оно не украшает. Два оставшихся брата Солженицыных, Константин и Илья, продолжали крестьянствовать в Сабле до самого прихода разбойников-коллективизаторов. Один, к счастью для него, умер перед самым раскулачиванием, а всю его семью и другого брата сослали в Сибирь в том потоке.
Но чернедь – не чернедь, если она не промазана через отца. Главное – отец. Какую же ложь выдвинуть о нём?

Исаакий Семёнович и Таисия Захаровна Солженицыны
Хронология очень бы мешала Суме, а без неё он может делать лёгкий передёрг: будто отец мой умер не за 6 месяцев до моего рождения, а через 3 месяца после (без даты, конечно), и это «известно достоверно» – и этим сюжетным ходом он вдвигает папину смерть в разгар гражданской войны – на март 1919. Время смерти само подталкивает: должен стать лютым белогвардейцем и быть убит красным мечом. И всё же гебистский коллектив не спроворился бы лучшим образом, если б на помощь не поспешил Кирилл Симонян. Сперва в своей брошюре, затем и в долгих дружеских беседах с Сумой он распахнулся издушевно: «Таисия Захаровна (моя мама. – А.С.) ему одному [Симоняну] поведала, что Исай Семёнович Солженицын во время гражданской войны был приговорён к смертной казни».
Вот даже как: не в бою честном убит, но – казнён. И вот как: сыну родному мать не сказала, и никому на земле, но чужому мальчику, чтобы тот донёс до потомства. (…)
Но самое характерное во всех этих лжах – не подхватистость Сумы, не бессовестность Симоняна, – но безмерное надмение Победителей, Оккупантов, надмение ЧКГБ: что настолько уже огнём и мечом они прошли по России, настолько изничтожили все государственные архивы и все частные, что нигде на русском пространстве не могла уцелеть ни одна не желанная им бумага. А уж Солженицына трепали, тягали – уж у него-то наверняка ничего нет.
А у меня, стараньем покойной тёти Маруси, как раз-то и дохранилось! Хотите, господа чекисты или цекисты, – метрика Ставропольской духовной консистории (летите, выскребайте запись, рвите лист!): о рождении отца моего и крестьянском звании Солженицыных, как Семёна Ефимовича, так и Пелагеи Панкратовны? Хотите – обыкновенное гражданское свидетельство, удостоверенное причтом Вознесенского собора города Георгиевска, Владикавказской епархии, Терской области, о смерти отца моего от раны 15 июня 1918 и погребении его 16 июня на городском кладбище? Как понимаете, ваши ревтрибуналы, расстреливая у ям, не посылали за священником, дьяконом и псаломщиком.
После несчастного нелепого своего ранения на охоте папа семь дней умирал в обычной городской больнице Георгиевска, и умер-то по небрежности и неумению врача справиться с медленным заражением крови от вогнанного в грудь кроме дроби ещё и пыжа. И похоронен он был в центре города (ещё и фотография выноса гроба из церкви долго хранилась у нас), и я сам хорошо помню, как посещали мы его могилу до моих 12 лет, и где она находилась относительно церкви, пока не закатали то место тракторы под стадион.
(Источник: ж-л Новый мир. № 2, 1999. «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». Часть 1. Глава 5. С. 109–115)
Миф 2
Припадочный патологический честолюбец
Корни этого мифа произрастают из интервью школьных друзей А.И.Солженицына Николая Виткевича и Кирилла Симоняна, а также первой жены писателя Натальи Решетовской.
ВИТКЕВИЧ (из интервью агентству АПН в 1974 г.):
«Нужно сказать, что уже в младших классах он готовился стать будущим великим писателем. Я помню ученические тетрадочки с надписями «Полное собрание сочинений. Том I. Часть 1-я».
Я счел необходимым остановиться на этом, так как это наложило отпечаток и на характер А. Солженицына. Он всегда был большим себялюбом. А во фронтовую пору стал неким «полубогом», судившим с этой высоты о плохом и хорошем не с точки зрения реальности, а по своим схемам и теориям».
РЕШЕТОВСКАЯ (из книги «В споре со временем», 1974 г.):
«С ранних лет Саня Солженицын мечтал стать писателем. (…) МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории. – Ю.Т.) – это путь наверх! (…)
В том, что Саня был ограниченно годен к военной службе, виной была его нервная система. Все, кто видел портреты Солженицына, обращали внимание на шрам, пересекающий правую сторону лба. Многие считали: это памятный след – то ли войны, то ли тюрьмы. Солженицын не подтверждал этого, но и не разуверял. А я, помня этот шрам с нашей первой встречи, не расспрашивала мужа о нём. Было как-то неловко. Узнала я о происхождении этого шрама лишь в 1973 году, спустя добрую треть века после нашего знакомства. Узнала от доктора медицинских наук, известного хирурга Кирилла Симоняна, одноклассника мужа. (…)
– Ты ведь знаешь, – сказал он, – что Саня в детстве был очень впечатлителен и тяжело переживал, когда кто-нибудь получал на уроке оценку выше, чем он сам. Если Санин ответ не тянул на «пятерку», мальчик менялся в лице, становился белым, как мел, и мог упасть в обморок. Поэтому педагоги говорили поспешно: «Садись. Я тебя спрошу в другой раз». И отметку не ставили.
Такая болезненная реакция Сани на малейший раздражитель удерживала и нас, его друзей, от какой бы то ни было критики в его адрес.
Даже когда он, будучи старостой класса, с каким-то особым удовольствием записывал именно нас: меня и Лиду – самых близких приятелей в дисциплинарную тетрадь, – мы молчали. Бог с ним.
Так же с оглядкой на Санину нервозность вели себя и педагоги. Это в конце концов создало в нём веру в какую-то непогрешимость своей личности, какую-то исключительность.
Но как-то преподаватель истории Бершадский начал читать Сане нотацию, и Саня действительно упал в обморок, ударился о парту и рассёк себе лоб.
Все были очень напуганы. Учителя относились после этого к Сане ещё осторожней…»
Итак, из приведённых отрывков ясно, что первым о припадках честолюбия у Солженицына с детства высказался Кирилл Симонян. Именно от него эта информация попала в книгу Решетовской. Виткевич же сказал о «себялюбии» Солженицына намного позже и в значительно менее ярких красках, не видя в нём физической или психической патологии (впрочем, не исключено, что и к такому мнению он пришёл под влиянием Симоняна, уже после своего выхода на свободу).
Мнения друзей, полученные как раз в момент работы над книгой, могли повлиять и на оценки Решетовской. Она пишет, например (после записи воспоминаний Симоняна), что в период учёбы одновременно в университете и МАФЛИ «он продолжал заниматься и дома – частенько до двух часов ночи, доводя себя до головной боли. Он и понимал, что так трудиться нельзя, и не мог остановиться. Ведь нужно было быть первым, первым! Во что бы то ни стало! Любой ценой!»
Такая оценка вполне соответствовала подсказке Симоняна, а вот прежнее, более простое объяснение самопожертвования Солженицына его желанием по максимуму использовать время учёбы в вузах для получения наиболее полных знаний, как необходимой базы больших писательских планов, Решетовской, на фоне обиды на него за «предательство» её любви, видимо, стало казаться менее убедительным.
Но стоило ли ей в данном случае так доверять Симоняну? Позже, в своей последней книге «АПН – я – Солженицын» (2003) она сама дважды уличит его во лжи при искажённом толковании им других случаев из жизни Солженицына, о которых она знала лично, либо от непосредственных свидетелей и из писем мужа того времени. О детских же его годах она знала очень мало, потому и позволила себе довериться рассказам его друзей.

А вот что писал в 1978 году, отвечая на выпады против него Симоняна, сам Солженицын в книге «Сквозь чад»:
«Итак, по сюжету, загадка о шраме продолжала и продолжала мучить Наташу – и вот, рассказывает она в своей книге, через многие годы, уже после развода, осмелилась спросить о том друга нашей общей юности Кирилла Симоняна.
А Кирилл – возьми да и знай. А Кирилл – к тому же и врач, да не просто хирург, но универсальный профессор медицины, который знает всю её и вокруг неё и особенно психологию, патопсихологию, фрейдовский психоанализ и всё, что может пригодиться (тут, разумеется, сарказм Солженицына – Симонян был только хирургом. – Ю.Т.). И он с лёгкостью даёт объяснение мучительной загадке: Солженицын в детстве был очень впечатлителен, не переносил, когда кто-нибудь получал оценку выше его (впрочем, таких и случаев не было), – становился белым как мел и мог упасть в обморок. Но как-то учитель Бершадский начал читать ему нотацию, и от этого Солженицын упал-таки в обморок и рассек лоб о парту.
Вот и прекрасный старт для безмерного честолюбия насквозь всю жизнь. Вот что может дать один только детский шрам!
Может, но при условии дружной согласованности всех служебных щупальцев КГБ. А это, увы, как раз и не случилось. Через три года появился (может быть, по другому пропагандистскому отделу, может быть, не ЧК, а ЦК) собственный опус доктора Кирилла Симоняна – и о том же самом шраме тот же самый доктор рассказал совсем другую историю: «Поссорившись с Шуркой Каганом, Саня обозвал его «жидом», тот ответил ударом. Падая, Саня рассек лоб о дверную ручку». (Внимание! выдвигаем монархо-фашиста.)
Вероятно, сами очнулись. И так как книгу Решетовской коммунистические коммивояжёры уже протолкнули по всему свету, то эссе Симоняна не выпустили дальше глухой Дании. Служебное упущение, кого-нибудь и наказали. Но Кирилла Симоняна, заступимся, нельзя упрекнуть: дело в том, что об этом школьном случае он действительно никогда достоверно не знал: случай произошёл 9 сентября 1930 в классе 5 «а», в самом начале учебного года, а Кирилл только в этих днях впервые перевёлся из другой школы, да в класс 5 «б», был ещё робким новичком, он и не видел и слышать толком не мог.

Так что для ЧК или ЦК он мог бы дать ещё третью или четвёртую версию. Но вопрос в том – какая всего полезнее? Полезнее теперь эти две разошедшиеся увязать – и кто же это сделает лучше самого Симоняна?
И доктор Симонян, диагност и эрудит, легко даёт теперь Суме (так А.И.Солженицын именует Т.Ржезача, автора книги «Спираль измены Солженицына, вышедшей в 1978 г. – Ю.Т.) профессорское решение: сперва Солженицын побледнел от уязвлённого самолюбия («страшно было смотреть»), а затем уже проорал антисемитский выкрик. А тогда Каган его толкнул – и так он разбился лбом о парту. (Если толкнул – очевидно, всё-таки, спереди? – то можно разбить только затылок?)
Ну да Сума имеет же возможность ещё поехать в Ростов-на-Дону и с помощью ГБ разыскать действительного второго участника того случая – Шурика Кагана. И из допроса его решительно выводит: всё подтвердилось! И даже выносит из этого интервью новые украшения: за несколько дней до события четыре верных друга – Каган, Солженицын, Симонян и Виткевич, надрезают свои пальцы старым скальпелем, смешивают кровь и клянутся в братстве. И вот теперь тот же Бершадский из-за антисемита Солженицына навсегда исключает Кагана из школы «имени Малевича». (Никогда такой школы не было. Сума полагает, наверно, что это – художник, а то был уже уволенный за политическую неблагонадёжность прежний директор школы, а была школа – имени пса Зиновьева, но тоже разжалована.)
Однако клятвы тех четырёх мальчиков не то что в те дни, но ни в том году, ни в следующем быть не могло по той нескладице, что Виткевич эти годы учился в Дагестане, а Симонян сроду в мальчишечьи игры не играл. (…)
9 сентября он (Каган. – Ю.Т.) принёс в школу финский нож без футляра (вот откуда у Сумы и выплыл «старый скальпель») и мы с ним, именно мы вдвоём, стали с этой финкой неосторожно играть, отнимая друг у друга, – и при этом он, не нарочно, уколол меня её остриём в основание пальца (так понимаю, что попал в нерв). Я испытал сильнейшую боль, совсем не известную мне по характеру: вдруг стало звенеть в голове и темнеть в глазах, и мир куда-то отливать (та самая «страшная бледность», в которой меня уличили). Потом-то я узнал: надо было лечь, голову вниз, но тогда – я побрёл, чтоб умыть лицо холодной водой, – и очнулся, уже лёжа лицом в большой луже крови, не понимая, где я, что случилось. А случилось то, что я как палка рухнул – и с размаху попал лбом об острое ребро каменного дверного уступа. Разве о парту так расшибёшься? – не только кровь лила, но оказалась вмята навсегда лобовая кость. Перепуганный тот же Каган и другие, не сказавшись учителям, повели меня под руки под кран, обмывать рану сырой водой, потом – за квартал в амбулаторию, и там наложили мне без дезинфекции грубые швы (советская бесплатная медицинская помощь), – а через день началось нагноение, температура выше сорока и проболел я 40 дней.
А как же – антисемитский выкрик и увещания Бершадского (у Сумы сцена написана так, будто допрос происходил ещё при льющей со лба крови)? А это было – полутора годами позже, и выкрикнул совсем другой мальчик – Валька Никольский, и совсем третьему, Митьке Штительману, они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о «кацапской харе», а я сидел поодаль, но не выказал осуждения, мол, «говорить каждый имеет право», – и вот это было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той следующей истории был совсем ни при чём. И Александр Соломонович Бершадский действительно со мной беседовал и своею властью (завуча, а не классного руководителя, как плетёт Сума) и своим пониманием пригасил дело, сколько мог.
А как же – исключение Кагана из школы за толчок меня к парте? А это было через два года, в сентябре 1932, и исключали из школы (тот же Бершадский) нас троих – именно: меня, Кагана и ещё Мотьку Гена, а исключали нас за систематический срыв сдвоенных уроков математики, с которых мы убегали играть в футбол. Я же – ещё и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз, и закинул за старый шкаф. (…) Грозно объявил Александр Соломонович наше исключение (как раз в те дни только и появился первый указ о праве исключать, в предыдущие годы и исключать не имели права, Сума опять не сверился со святцами) – и мы с Каганом и Геном, убитые, ничего не говоря дома, дня три приходили под школу сидеть на камешках, пока девчёночья «общественность» не составила петицию, что класс «берёт нас на поруки», – и Бершадский дал себя уговорить. (…)
Но чем ближе к литературным занятиям этого треклятого Солженицына, тем неизбежнее должен открыть Сума и движущие его мотивы, источники фальшивого вдохновения (сожигающее честолюбие) и принцип выбора тем (что-нибудь, «что наиболее модно в данной ситуации»), да и – наставников его первых шагов. А наставники, оказывается: прежде всего Кирилл Симонян, потом Кока Виткевич и Шурик Каган, хоть он уже в другой школе, потом и мы по разным институтам (неважно, это нужно для вампукского шествия воинов). (…)
И вот постепенно, в ряде дружеских встреч, начиная с осени 1975 (как задали эту книжку), профессор Симонян растолковывает схватчивому Суме все главные события жизни Солженицына и вообще – что такое он есть. «По авторитетному мнению профессора Симоняна бледность и обморок – это приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий. (…) Я смотрю на Солженицына глазами врача. Его судьбу предопределил его генетический код. Солженицын наделён комплексом неполноценности, который выливается в агрессивность, а та в свою очередь порождает манию величия и честолюбие». (Не попеняем на неполную оригинальность этой фрейдистской азбуки. Но заключение о моей душевной болезни – выше, пункт 20-й, – тоже Симоняна, хорошо, что он – не в институте Сербского.). (…)

К.Симонян, Л.Ежерец и А.Солженицын в студенческие годы
Но что ты наделал, Кирилл? Ведь ты не меня облепил этой небылью – но гиблую правду нашей страны, которую враги человечества шесть десятков лет резали, жгли, топтали, топили, – и вот черезсильно мы достаём её со дна – а ты помогаешь заляпывать опять. Помогал. Ради дара русской истории, подымаемого из потопления, – я и вынужден, тобою и этими рогатыми, изневольно, изненужно, длинно восстанавливать каждую клеточку прежде собственной своей жизни…».
(из книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». Ч. 1. Глава 5 / ж-л «Новый мир», 1999. № 2. С. 117–120)
Эти воспоминания Солженицына камня на камне не оставляют от «свидетельств» Симоняна, использованных в книгах Решетовской и Ржезача. Но чем же объясняются сами эти свидетельства? Что могло заставить Симоняна так беспардонно лгать? Об этом А.И.Солженицын узнал позже и приписал в сноске к предыдущему тесту книги в том же номере журнала «Новый мир» за 1999 г., на страницах 130–131:
«Через 12 лет после написанного здесь, зимой 1990 – 91, достигли меня же письма неизвестного мне московского врача-психиатра Д. А. Черняховского. Он писал, что в соответствии с волей Кирилла Семёновича Симоняна. уже рассказывал некоторым лицам и теперь сообщает мне предсмертный рассказ К. С. (Кирилла Симоняна. – Ю.Т.), которого он знал по совместной работе:
«Это было осенью 1977. К. С. заявил, что хотел бы доверить мне «постыдные факты своей жизни». «Расценивайте это как исповедь человека, который скоро умрёт, – сказал он, – и хотел бы, чтобы его покаяние в конце концов достигло друга, которого он предал. (…) Передайте ему всё, что сейчас расскажу. С деталями, со слезами, которые видите, с сердечной болью, о которой можете догадаться». Во время беседы К. С. часто глотал валидол. «После моей смерти не делайте из сказанного тайны. Долго ждать не придётся …». Об этой дружбе (со мной. – А. С.) говорил с волнением, считал, что она во многом повлияла на его жизнь, (…) утверждал, что имел литературные способности едва ли не больше, чем Солженицын. Впоследствии, ощущая себя носителем нереализованного литературного таланта, переживал это как явную несправедливость, что и «сыграло пагубную роль». (…) И ещё другое. С детства у К. С. стали проявляться некоторые психобиологические особенности, связанные с половым выбором. Уже будучи врачом, он пережил в связи с этим неприятности, угрожавшие его карьере. (Вот, наверно, это и было в 1952. – А. С.) Когда к К. С. пришли «вежливые люди» (это уже, надо понять, – в 1975 – 76. – А. С.), он в первый момент испытал леденящий ужас, но потом с облегчением понял, что хотя они могут мгновенно сломать жизнь, превратив из доктора наук «в никому не нужное дерьмо», их цель иная: «опять Солженицын». Они были осведомлены, говорили какие-то правдоподобные вещи. Неожиданно для себя К. С. почувствовал какой-то подъём и благодарность, – «да, благодарность за подаренную жизнь врача». Странички «фальшивого доноса Ветрова» были с готовностью восприняты как подлинные, хотя даже тогда «резанули две-три детали, чуждые Солженицыну». Написал «какую-то пакость для распространения за рубежом». Писал в каком-то странном подъёме, «в дурмане». (…) Рассказал, как в больницу приезжал Ржезач – «мразь, кагебешник, говно. Играл с ним в постыдные игры», – именно так выразился К. С. Потом «дурман рассеялся, спохватился и хоть в петлю». Мы долго говорили с К. С. Его покаяние было искренним и глубоким. (…) К. С. сказал, что Вы не могли не знать о его «ахиллесовой пяте»: «Если б он захотел, то мог бы так приложить по больному месту, что второй (бы) раз не понадобилось. Он этого не сделал». (…) Я как врач-психиатр должен заметить, что во время беседы он был угнетён, но это не была та депрессия, во время которой возможен самооговор. (…) 18 ноября 1977 К. С. скоропостижно скончался». (Примеч. 1993.)»
Д.А.Черняховский – врач-психиатр, психотерапевт, работавший в поликлинике Литературного фонда СССР и слывший тогда сочувствующим диссидентам.
По мнению Виктора Тополянского, проводившего собственное журналистское расследование репрессирования в 1948–1952 гг. видного советского хирурга С.С.Юдина, Кирилл Симонян, бывший тогда одним из его наиболее доверенных помощников, с 1945 года являлся секретным сотрудником КГБ (сексотом). (ВИКТОР ТОПОЛЯНСКИЙ. ДЕЛО ЮДИНА / http://index.org.ru/journal/31/15-topoljnski.html ).
Миф 3
Еврей и антисемит
Это, конечно, два разных мифа, но они связаны между собой по этническому признаку и иногда используются совместно, поэтому рассмотрим их вместе.
Миф о еврействе Солженицына – любимая пропагандистская игрушка неосталинистов на просторах интернета. Почти все соцсети, где они участвуют, забиты изображениями Солженицына с пейсами и, в различных сочетаниях, со звездой Давида. Миф этот начал широко распространяться среди населения СССР партийными разъездными лекторами через систему Домов Культуры ещё до высылки Солженицына из СССР. Была даже придумана якобы настоящая фамилия Солженицына – «Солженицкер».