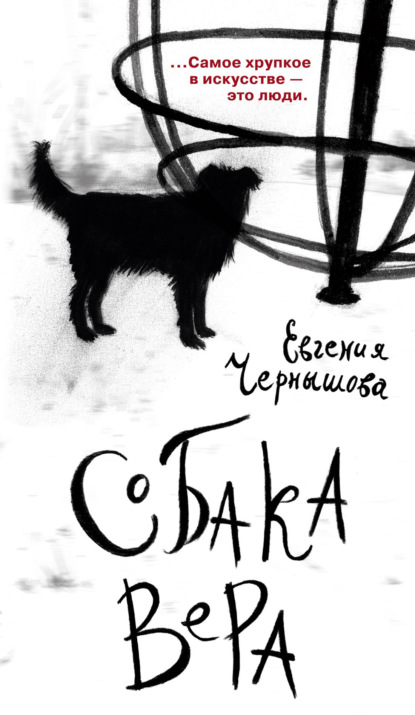День города

Полная версия
День города
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Серия «Азбука. Голоса»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Примечания
1
Любовь не знает преград(исп.).
2
В моем безлюдном мире тихоПод сенью низких облаков,И сладкий дым, что вьется лихо, —То дым сожженных мной мостов(англ.).3
Привет(исп.).Привет. Наташа. Я так счастлив. Очень, очень счастлив. Красавица. Красавица! (англ.)
4
Кто это?(англ.)
5
Это… известный… русский… писатель(англ.).
6
Привет, я Наташа(англ.).
7
Идем(англ.).
8
Наташа, что они делают?(англ.)
9
Они…(англ.)
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу