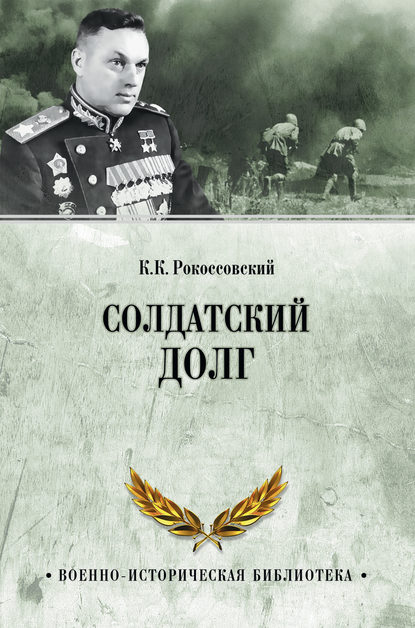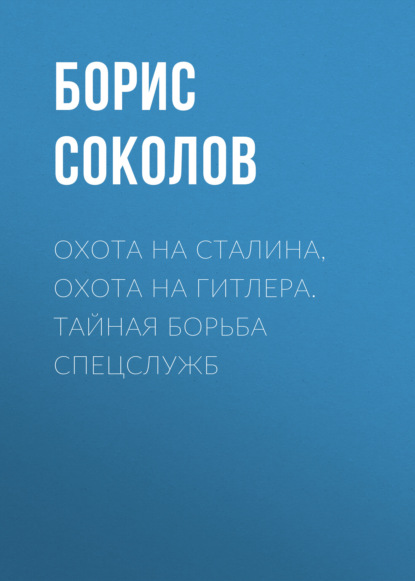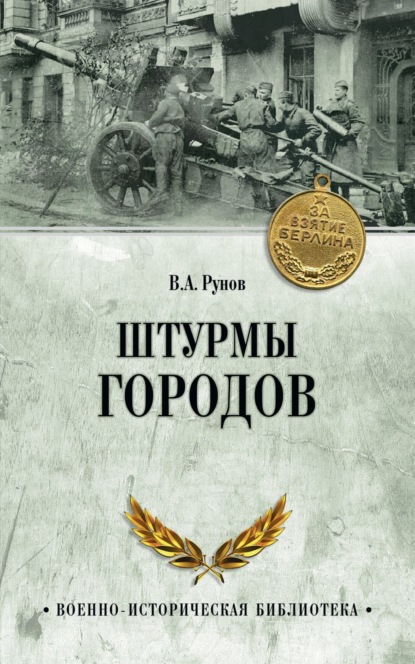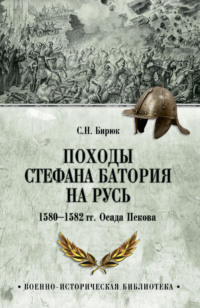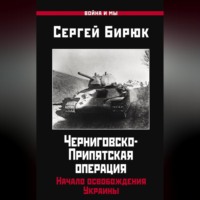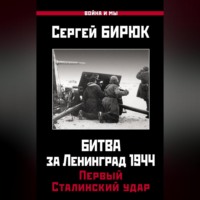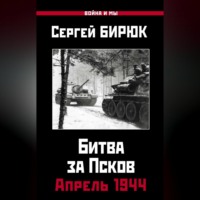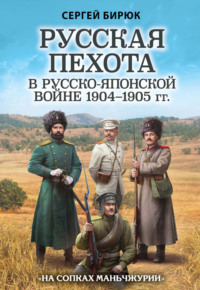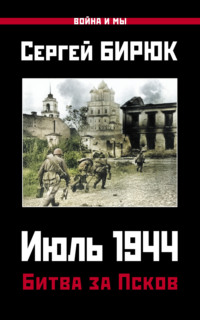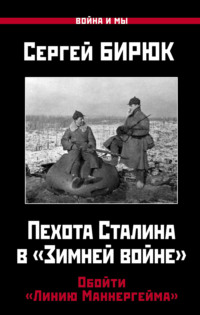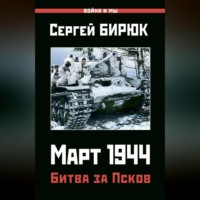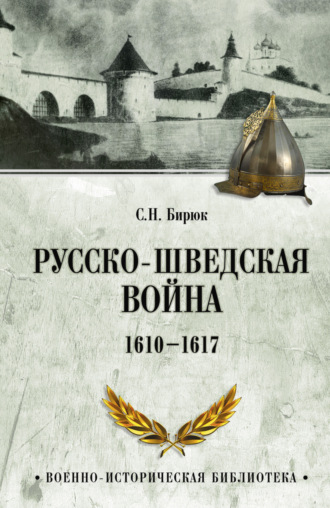
Полная версия
Русско-шведская война. 1610–1617
Причин столь значительного роста доли финских войск было две. Во-первых, география: войны XVI в. против Русского царства велись на границе Финляндии, что, естественно, привлекло внимание военных к восточной половине страны, а во время Ливонской кампании (войны с Речью Посполитой 1621–1629 гг.) Густава Адольфа многие финские войска, в отличие от шведских, были демобилизованы зимой и отправлены домой, а не на зимние квартиры за границей, поскольку добраться до Финляндии в конце года было проще, чем пересечь Балтийское море. Во-вторых, бедность: Финляндия была значительно беднее шведской глубинки, а это означало, что военная служба обеспечивала не хуже, а возможно, и лучше, чем натуральное хозяйство. Перспективы натурального хозяйства были в лучшем случае туманны, поскольку сельскохозяйственные угодья были скудны, а население росло. Со временем бедность сельскохозяйственных угодий, вероятно, стала главным объяснением того, почему Финляндия поставляла войска на уровне, намного превышающем ее относительную долю в общей численности населения[23].
Если в Финляндии с 1606 г. происходило бурное развитие военных структур, то в Швеции имела место противоположная тенденция. Причиной этого было, среди прочего, то, что в кампании в Ливонии принимали участие войска из собственно Швеции, а потери, понесенные в битве при Кирхгольме, проредили ряды армии. Более того, процесс пополнения численности армии был ограничен из-за мягкой формы всеобщей воинской повинности. И хотя в 1606–1609 гг. Швеция не посылала в Ливонию сколько-нибудь значительных сил, отдельные войска, дислоцированные в самой Швеции, постепенно истощались. Перед решающим наступлением на Ригу, которое Карл IX хотел начать в 1608 г., он мог рассчитывать на 20 рот и 8 эскадронов. Это были силы, намного меньшие, чем те, которые он имел раньше. От того же года есть важные данные, показывающие небольшое количество шведских рот в то время. В среднем в каждой из 23 рот, подробно упомянутых одним источником, служило всего 187 пехотинцев[24].
В 1611 г., незадолго до начала войны с Данией, численность шведской национальной армии была наименьшей. Сохранились списки, содержащие данные о численности армии до и после призыва в 1611 г. (их можно найти в прилагаемой ниже таблице). Они показывают, что пехота состояла из 41 роты (7102 солдата), т. е. в среднем 173 пехотинца в роте. Благодаря призыву, объявленному риксдагом в Эребру в декабре 1610 г., в армию было призвано 9803 человека из числа крестьян, около 1650 – по frälse (освобождение дворянства от налогов) и 785 – из набора под руководством духовенства. Всего пехота насчитывала 16 905 человек – не считая набора, осуществленного по frälse и духовенством. Это означало, что система всеобщего призыва в армию с честью выдержала это трудное испытание.
Полученные хорошие результаты были вызваны также изменением, которое Карл IX ввел в армии в мирный период, когда солдаты находились на квартирах. Оно предусматривало размещение командиров подразделений в приграничных и некоторых других губерниях. Они занимались вопросами, связанными с мобилизацией отдельных подразделений, их содержанием и самим призывом на военную службу. Теперь армия была организована в той степени, которая отвечала потребностям столь многочисленной организации. Количество рот было увеличено с 41 до 61, каждая из них должна была состоять из 300 человек. Однако в действительности численность рот оставалась на гораздо более низком уровне, чем можно было предположить по их структуре и утвержденным средствам. Изучение исходных материалов о 30 ротах полевой пехоты, которые, согласно реестрам, были вполне в наличии и боеспособны и составляли основную часть всех сил, принимавших участие в военных действиях в 1611 г., показало, что из 12 259 солдат, которые король имел в своем распоряжении, в поле вышли только 7020 человек. Это было обусловлено в основном недостаточным набором солдат и нехваткой вооружения. Другой причиной было уклонение от военной службы[25].
Численность пехоты до и после набора 1611 г.

Упомянутая выше низкая боевая ценность пехоты снизилась еще более, поскольку некоторое время она состояла исключительно из новобранцев. Отсутствие тяжелой пехоты никак не могло быть компенсировано, хотя солдаты получали в свое распоряжение достаточное количество оружия. Потребовалось много времени, чтобы подготовить эффективных пикинеров. Призыв в армию закончился в начале марта, а уже в конце апреля был отдан приказ о выступлении в поход. Однако командование не успело разделить призывников на полки, это было сделано буквально в последний момент, перед первыми боями, но импровизированно. Против шведского пехотного ополчения Дания выставила многонациональную профессиональную армию.
В отличие от пехоты, кавалерия не имела возможности сильно увеличиться в численности, что было связано с тем, что призыв в нее всегда был проблематичен. Кавалерия состояла из 3 гвардейских эскадронов, 3 дворянских, 11 региональных и 2 олдерменских (муниципальных) – всего 19 эскадронов общей численностью 2640 человек. Численность кавалерии выступившей в поход была несколько ниже. Согласно принятым в 1609 г. решениям количество огнестрельного оружия у кавалериста сократилось до двух пистолетов. Фактически солдатам было разрешено сохранить карабины.
Доля иностранных наемников в армии была незначительной и составляла всего несколько рот и несколько эскадронов. Таким образом, Швеция вступила в войну с Данией с чисто национальной армией, обладавшей ограниченным боевым потенциалом, что объясняет ту осторожность, с которой шведские солдаты участвовали в различных операциях[26].
Артиллерия в начале эпохи Васов не была отдельным родом войск. Ее отличительной особенностью было то, что она была связана с полевой армией через производителей оружия и материальную отчетность. Во главе артиллерии стоял главный оружейник (överste arklimästeren), позднее названный главным цейхмейстером (överste tygmästaren). В мирное время он находился в Стокгольме. В его подчинении находились главный склад оружия (Большой арсенал в Стокгольмском королевском замке) и пушечнолитейный завод. Ему также подчинялись опытные оружейники и мастера, артиллеристы (bysseskyttar) и канониры (fyrverkare). В других шведских крепостях, где оружие не производилось, персонал, подчиненный цейхмейстеру, состоял только из артиллеристов и канониров.
Орудия, передаваемые из главного арсенала и из других крепостей в полевую армию, назывались «полевой артиллерией». В нее входили как тяжелые осадные орудия (murbräckar), так и обычные полевые орудия (fältskytte). Организационного различия между осадной и полевой артиллерией не существовало по той простой причине, что в военных кампаниях того времени занятие стационарной боевой позиции было не менее важно, чем маневренный бой. Для захвата крепостей необходимо было использовать тяжелую осадную артиллерию. Однако условия транспортировки техники и вооружения по дорогам того времени, которые чаще всего находились в ужасном состоянии, были настолько сложными, что тяжелые орудия не всегда вовремя прибывали в указанное место, что нередко приводило к срыву осады. Именно так произошло в 1563 г. во время осады Хальмстада: из 17 тяжелых осадных орудий до места добрались только три, хотя солдаты сделали все возможное, чтобы улучшить состояние дорог.
Тяжелая осадная артиллерия (murbräckar) состояла из ординарных картаун, двойных картаун, трехчетвертных картаун, полукартаун весом от 4 до 2 т и ¾ кулеврин (notslangor) весом около 3 т. Их характерной особенностью были более длинные стволы и больший вес, чем у картаун, хотя стреляли из них более легкими ядрами.
Полевая артиллерия состояла из:
– полевых кулеврин (fältslangor) – одинарных, ¾, ½ и ¼ массой 1500—500 кг.
– фальконетов (двойные и обычные) массой 350–174 кг.
– фальконов массой до 75 кг.
В качестве снарядов использовались в основном обычные круглые ядра, хотя в крупнокалиберных орудиях, в том числе и в кулевринах, иногда применялись специальные снаряды – цепные (kedjelod) или ножничные (kryssiod), которые использовались как в маневренной войне, так и во время осад. В полукартаунах и кулевринах использовались каркасы (höllod) – полые ядра, наполненные порохом, или гранаты, конструкция которых была такова, что они воспламенялись практически сразу после выстрела. К концу правления Густава Васы для ведения ближнего боя стали использоваться штурмовые пушки (stormstycken) стрелявшие картечью. Их масса, вероятно, составляла 300–200 кг[27].
К полевой артиллерии относились и «огненные пушки» (fyrverket), которые обслуживались специально обученными канонирами (fyrverkare). Особым видом орудий этого типа была огненная мортира (fyrmörsare), предназначенная для стрельбы зажигательными ядрами (fyrbollar) для «поджигания домов, башен и крепостей». Огненная мортира использовалась исключительно в осадной войне. Вес таких мортир, отлитых в середине XVI в., составлял 200–300 кг.
Ручное огнестрельное оружие напоминало гаковницы. Самое крупное по калибру оружие называлось фольгер (mickhake) – по вилкообразной опоре, называемой вилкой (micke), с помощью которой оно крепилось к ложе. Вес такого оружия составлял около 100 кг. Фольгеры использовались как в бою, так и в мирное время.
Приведенная таблица отражает количество прислуги и боеприпасов орудий в XVI в. В ней приведены данные похода принца Карла в Кальмар в 1598–1599 гг. Артиллерия состояла из: 2 двойных картаун, 2 одинарных картаун, 12 полукартаун, 2¾ кулеврин (notslangor) и 2 «новоотлитых пушек, стреляющих дробом»[28].
Количество прислуги и боеприпасов на одно орудие в XVI в.

По развитию шведской артиллерии в период ранних Васов создается впечатление, что важнейшим было снижение веса пушек, упрощение конструкции и введение единых стандартов. Только позднее эти усилия принесли более конкретные результаты.
В начале XVII в. Швеция быстро переняла испано-голландскую артиллерийскую систему, которая быстро стала общим стандартом для артиллерии Центральной и Северной Европы. Испано-голландская система достигла зрелости в 1609 г., когда генерал артиллерии Испанских Нидерландов Шарль Бонавентура де Лонгеваль (1571–1621), граф Буккуй, вместе с артиллеристами Кристобалем Лечугой (ум. 1621) и Диего Уфано (ум. 1609–1612), упростили и сократили большое количество прежних артиллерийских калибров до универсальной системы, состоящей всего из четырех стандартных калибров. Уфано объяснил необходимость реформы тем, что «разнообразие и большая путаница в старых пушках приводили к большим затратам сил и средств на приобретение подходящих пушечных ядер. В настоящее время у нас есть единая линейка артиллерии, основанная на картауне и ее производных, вплоть до 6-фунтового калибра, так что соответствующие боеприпасы легко достать и использовать…».
Испано-голландская система использовала ту же терминологию, что и устаревшая немецкая система XVI в., на основе которой она возникла, но для разных калибров. Во-первых, как и раньше, новая система разделяла артиллерию на два основных класса: короткоствольную осадную артиллерию малой дальности (нем. Mauerbrecher, «таран») и длинноствольную полевую артиллерию большой дальности (нем. Schlange, «змея»; в других языках более известна как culverins, в конечном итоге от латинского coluber, «змея» и colubrinus, «змееподобный»). Длинноствольные кулеврины отныне действительно считались основным классом артиллерии, поскольку они были более универсальными, скорострельными и дальнобойными орудиями. Хотя оба класса артиллерии также использовались в качестве корабельных пушек, длинноствольные, по-видимому, были предпочтительнее в этой роли[29].
Каждый класс артиллерии был разделен на четыре стандартных калибра. В качестве базового калибра для осадной артиллерии использовался 48-фунтовый, а для полевой артиллерии – 24-фунтовый. В дополнение к 48-фунтовому орудию испано-голландская артиллерийская система предусматривала дальнейшее использование старого Doppelkartaune, или двойной картауны, 96-фунтового калибра, которое было очень трудно передвигать. Однако вскоре выяснилось, что даже 48-фунтовые орудия слишком тяжелы для удобной эксплуатации. Также было обнаружено, что 24-фунтовый снаряд не только легче, проще в перемещении и занимает меньше места, чем 48-фунтовый, но и потребляет меньше пороха и имеет более высокую скорострельность, при этом производит почти такое же воздействие на каменную стену. Отныне 24-фунтовый калибр стал стандартным для осадных орудий, и это положение сохранялось до конца XIX в., когда он был окончательно вытеснен современной нарезной артиллерией.
Хотя испано-голландская артиллерийская система быстро стала общепринятым стандартом среди профессионалов, мастера-артиллеристы иногда использовали несовместимую терминологию. Например, четверть кулеврина могла называться пеликаном, а «фалькон» (сокол) послужил источником названия «фальконет» для длинноствольных пушек меньшего калибра. Более того, по практическим соображениям пушки часто стреляли гораздо более легкими зарядами, чем можно было предположить из их официальной классификации. Тем не менее из приказов и отчетов того времени видно, что североевропейские армии полностью приняли испано-голландскую артиллерийскую систему к 1610-м гг[30].
Испано-голландская артиллерийская система, в которой калибр определяется в зависимости от базового веса в фунтах железа соответствующего пушечного ядра

Шведская осадная артиллерия включала 96-фунтовые картауны (швед. – dubbelkartoger), 48-фунтовые (helkartoger), 36-фунтовые (trekvartskartoger), 24-фунтовые (halvkartoger) и 12-фунтовые (kvartskartoger или kvarterstycken).
Кроме того, в состав шведской артиллерии входили длинноствольные пушки класса кулеврина: 24-фунтовые (helslangor, notslangor или faltslangor, то есть «полевые змеи»), 18-фунтовые (trekvartsslangor), 12-фунтовые (halvslangor) и 6-фунтовые (kvartsslangor). Длинноствольные пушки меньшего калибра назывались фальконами (falkoner), а пушки еще меньшего калибра – фальконетами (falkonetter).
Общее количество пушек было велико, но они были распределены по всем замкам страны – в Швеции, Финляндии и Эстляндии. В 1600 г. в одной только Стокгольмской оружейной палате находился артиллерийский парк, состоящий из двух 96-фунтовых пушек (о них подробнее ниже), пяти 48-фунтовых, четырех 36-фунтовых и десяти 24-фунтовых пушек. Количество кулеврин было гораздо больше, включая пятьдесят одну 24-фунтовую, тридцать пять 18-фунтовых (из них 18 бронзовых), сто четыре 12-фунтовых (из них 79 бронзовых) и большое количество пушек меньшего калибра.

Было понятно, что унифицированные калибры выгодны для логистики и в целом делают армию более эффективной. Однако это еще не было отражено в существующих артиллерийских парках. Когда датчане в 1611 и 1612 гг. взяли замки Кальмар и Гулльберг, они обнаружили пушки нескольких разных калибров, включая 12-фунтовые, 10-фунтовые и 3-фунтовые. В 1582 г. в Стокгольме были отлиты две удивительно большие длинноствольные 96-фунтовые пушки (fyrdubbla notslangor). Эти две пушки весом 10 200 кг каждая получили название Makalös («Непревзойденная»). Из-за плохого состояния дорог в Швеции осадная артиллерия зачастую вообще не могла передвигаться, разве что на речных лодках или кораблях. Даже полевая артиллерия, созданная в 1541 г. и с тех пор постоянно обновлявшаяся, не отличалась мобильностью, что часто мешало ее эффективному использованию. Мы увидим, что шведская артиллерия лишь изредка использовалась в Русском царстве, где дорожные условия были еще хуже[31].
Швеция располагала богатыми залежами меди, поэтому производство бронзовых пушек никогда не было проблемой. Тем не менее на вооружении находилось и немало железных пушек. Железные пушки, как правило, считались уступающими по качеству. Хотя железные пушки были гораздо дешевле бронзовых, они были и тяжелее, поскольку железо слабее бронзы, а для железной пушки, соответственно, нужен более толстый ствол. Кроме того, при наличии производственных дефектов железные пушки могли лопнуть без предупреждения. Бронзовые пушки тоже могли лопнуть, но в этом случае на стволе обычно появлялось заметное вздутие.
Наконец, существовали мортиры и петарды, которые использовались при штурмах крепостей. Впервые петарды были завезены в Швецию из Франции в 1592 г. Отлитые из бронзы или железа, они весили от 20 до 70 кг. С 1602 г. шведская армия использовала петарды в Ливонии. Шведы нашли петарды очень полезными в первые годы войны в Русском царстве. Историк Фредхольм фон Эссен отмечает, что русские вскоре научились противодействовать этой тактике, возводя заборы перед воротами, чтобы лишить петардистов доступа. Скорее всего, речь идет о захабах, фортификационных сооружениях, которые представляет собой длинный коридор между стенами. Подражая русским, король Карл приказал возвести два или три забора перед важными воротами своих собственных укреплений. Для шведской армии в Русском царстве мортиры с тех пор стали главным оружием при осаде крепостей.
Шведская осадная артиллерия сыграла лишь незначительную роль в войне в Русском царстве. Учитывая количество осад, она должны были быть заметной частью каждой из них. Однако трудности с логистикой и плохое качество дорожной сети позволяли использовать их только в исключительных случаях. Хотя в 1610 г. из Нарвы, возможно, стреляли по соседнему Ивангороду, с уверенностью можно сказать, что собственно осадные пушки были применены при осаде Пскова Густавом Адольфом в 1615 г. К тому времени шведская армия уже установила 24-фунтовые осадные пушки в замках Выборга, Ревеля, Нарвы, а также в захваченном Ивангороде. Считается, что для осады Пскова из Швеции были доставлены 48-фунтовые осадные пушки.
Изготавливались мины для разрушения стен вражеских крепостей. В Стокгольмской оружейной палате хранились огромные мины с порохом весом 112, 541 и 614 кг.
Ручные гранаты использовались повсеместно, особенно во время осад. С ними обращались артиллеристы[32].
Хотя сегодня это малоизвестно, Швеция применяла пирохимические боеприпасы различных типов. Уже тогда широко использовались ракеты для освещения поля боя и зажигательные снаряды. Эта область постоянно развивалась, и с 1540 г. количество и типы пиротехники в Швеции быстро росли. В 1570 г. был создан корпус фейерверкеров, отдельный от корпуса артиллерии. Пиротехнические боеприпасы продолжали использоваться и в XVII в., когда в арсенал оружия были добавлены мортиры различных типов, способные запускать пиротехнические средства. Артиллерия также иногда стреляла пушечными ядрами (dunstkulor), наполненными токсическими веществами, которые испускали ядовитые пары – ранняя форма химической войны. Артиллеристы также производили значительное количество строительных, саперных и инженерных работ. Так, шведский артиллерийский обоз перевозил 12 или 13 понтонов или лодок размером 4,5×2 м для строительства временных мостов, а также все необходимые материалы[33].
Военное наследие Густава Васы имело как положительные, так и отрицательные стороны. Хорошего в нем было так много, что, благодаря чисто национальному характеру армии, она стала символом народа, защищающего свою родину с оружием в руках. Всеобщая воинская повинность позволяло поддерживать численность армии в достаточно гибких рамках и при необходимости адаптировать ее к обстоятельствам. Благодаря наличию собственного военно-морского флота Швеция также смогла снизить угрозу со стороны Дании.
Отрицательной чертой наследия первого Васы было то, что армии не хватало единой организации и высокого качества. Хуже всего в этом контексте выглядел национальный элемент в армии, поскольку национальные подразделения не были организованы в полки и, следовательно, не могли быть приписаны к определенному военно-административному округу страны. Неприятный опыт, с которым столкнулась армия по этой причине, привел к тому, что среди шведских солдат сохранилось чувство неполноценности. А это, пожалуй, худшее, что может случиться с армией, поскольку подрывает ее боевой дух. Именно это и произошло в Швеции: психологическая связь между королем во главе армии и шведским народом, который был готов защищать свою страну, разорвалась.
Несмотря на выдающиеся способности, которыми первые короли династии Васа могли похвастаться в других областях, ни один из них не обладал необходимыми личными или военными качествами, чтобы выступать в качестве настоящего лидера на поле боя. Шведские вооруженные силы нуждались не только в реформаторе, способном с нуля создать новую структуру армии и разработать новую тактику, но и в таком короле, который был бы выдающимся лидером и полководцем на поле боя. Только так можно было восстановить разорванную связь короля с народом[34].
Новый король Густав Адольф стал таким реформатором. Он имел значительную теоретическую подготовку. Наставник Густава Адольфа Йохан Скитте познакомил молодого короля с классическими работами по тактике Элиана, Фронтина и Вегеция, а также с современными исследованиями государственного управления и тактики, например, с работами фламандского философа и историка Юстуса Липсиуса (1547–1606). Кроме того, Густав Адольф изучал шведскую военную историю, включая, можно предположить, попытку в начале 1560-х годов его дяди Эрика XIV внедрить испанскую модель. Он получил глубокие знания как современных испанских, так и голландских моделей.
По разным причинам, в том числе, можно предположить, политическим и религиозным, Густав Адольф пришел к выводу, что голландская модель наиболее подходит для шведских условий. Уже в 1601–1602 гг. Иоганн Нассауский посетил Швецию. Возглавив шведскую армию, он высказал некоторые идеи о том, как реформировать организацию и тактику. Густав Адольф, которому тогда было восемь лет, по крайней мере один раз встречался с Иоанном после его отъезда из Швеции. Пять лет спустя, в 1607 г., Густав Адольф впервые встретил своего будущего генерал-майора Додо цу Книпхаузена унд Иннхаузена, который ранее находился на голландской службе и досконально знал голландскую модель. В 1608 г. 14-летний Густав Адольф провел два месяца интенсивного обучения голландской модели под руководством Якоба Делагарди, который сам обучался ее использованию в Голландской республике, когда служил там полковником. На этом формальное обучение Густава Адольфа закончилось. Однако он продолжал читать и наблюдать, и более того, в 1611 г. начало Кальмарской войны обязывало его отныне взять на себя ведущую роль в военном деле. Он не оставлял теоретических занятий и читал недавно опубликованные трактаты о войне Иоганна Якоби фон Вальхаузена (Kriegskunst zu Fuss, 1615) и Мариуса Саворгнануса (Kriegskunst zu Wasser und Land, 1618). Возможно, он также изучал произведение Джорджо Басты («Il maestro di Campo Generale», 1616 г., немецкое издание 1617 г.). Тем временем Густав Адольф обсуждал вопросы ведения войны со многими опытными офицерами и переписывался с другими[35].
Густав Адольф с самого начала увидел необходимость привести шведскую армию в соответствие с современными стандартами и реформировать ее организацию, вооружение, технику и тактику. Для этой задачи ему посчастливилось иметь в своей армии несколько опытных солдат, сражавшихся в течение длительного периода войн при предыдущих королях Юхане III и Карле IX. Уже к концу XVI в. большинство отечественных офицеров шведской армии (капитаны, лейтенанты, прапорщики и даже сержанты) уже обладали высоким профессионализмом во всем, кроме теоретического образования. Они, конечно, были не менее профессиональны, чем отечественные офицеры французской или испанской армии. Во-первых, они имели опыт в занимаемой военной должности. К 1590 г. 77 процентов отечественных пехотных капитанов и 62 процента отечественных кавалерийских капитанов прослужили в своем нынешнем звании три и более лет. Кроме того, большинство или все некоторое время служили в младших званиях, прежде чем получить звание капитана. Кроме того, 35 процентов всех пехотных капитанов и 31 процент всех кавалерийских капитанов фактически прослужили 11 лет и более, и большую часть этого времени провели на войне. К 1610 г. 63 процента отечественных пехотных капитанов и 71 процент отечественных кавалерийских капитанов прослужили в своем нынешнем звании три и более лет. К тому времени 29 процентов всех капитанов пехоты и восемь процентов всех капитанов кавалерии прослужили 11 и более лет. Последнюю цифру можно объяснить тем, что к этому времени гораздо большая доля кавалерийских офицеров (48 процентов от общего числа) были иностранного происхождения. Число иностранных пехотных офицеров также возросло, но не так резко, до 27 процентов. Иностранные офицеры, конечно, не так долго служили в шведской армии, но часто приобретали значительный опыт в других местах. Соответственно, не было необходимости строить армию с нуля. Профессиональное ядро уже существовало[36].