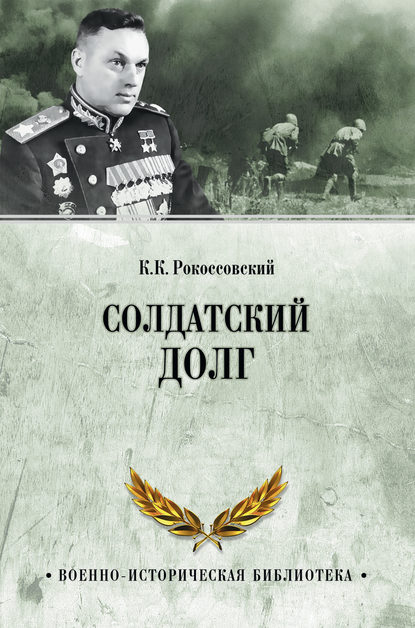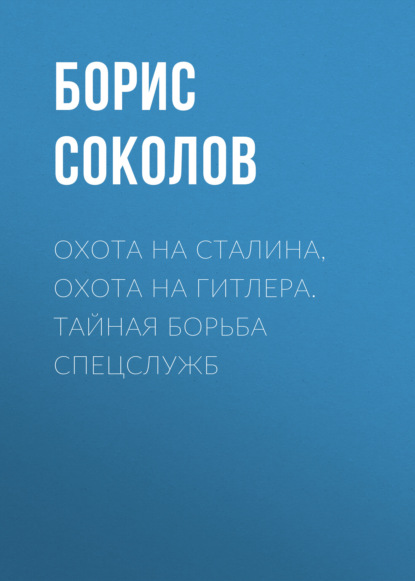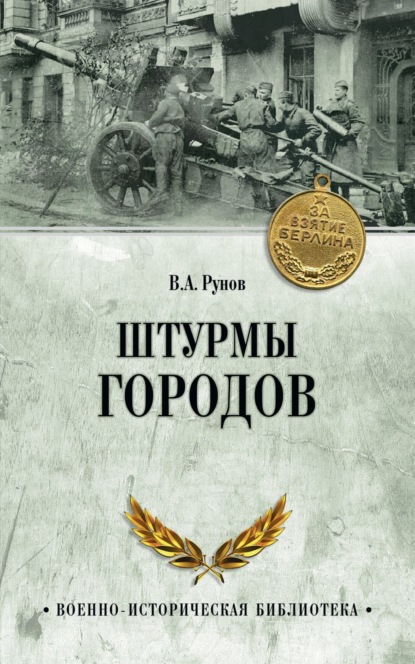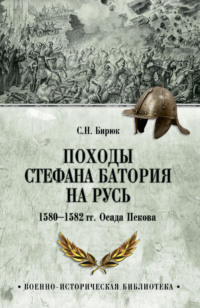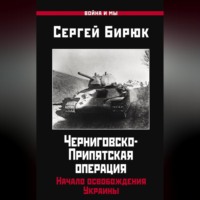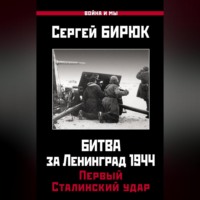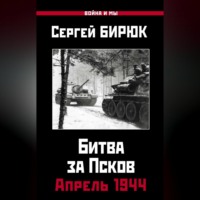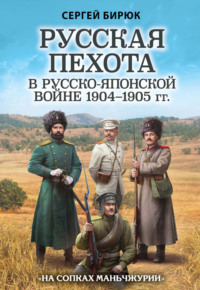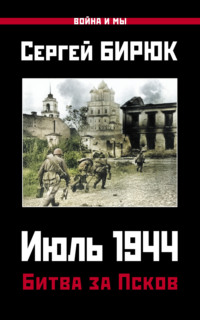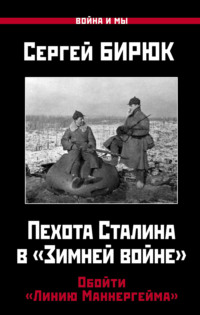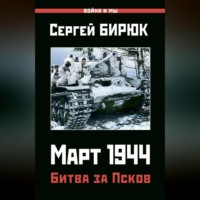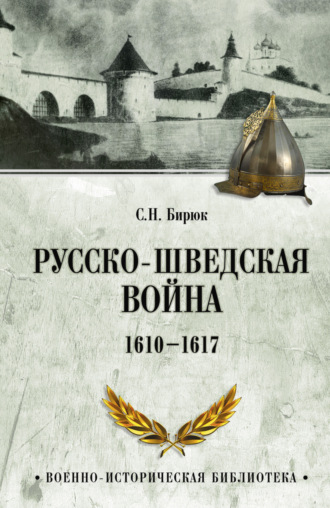
Полная версия
Русско-шведская война. 1610–1617
Характерной особенностью нидерландского военного искусства была малочисленность низшей пехотной тактической организационной единицы – батальона, организованного так же, как и в армии Эрика XIV, то есть посредством четко выраженной тактики последовательных линий (traffentaktik), а также эффективное взаимодействие тяжелой и легкой пехоты. Боевое построение – батальон – состояло из дивизиона пикинеров, образующего линию в 25 человек, и двух мушкетерских дивизионов на флангах, по 12 человек в каждой линии. Глубина всех дивизионов составляла 10 шеренг. Защита мушкетеров от кавалерии или тяжелой пехоты противника обеспечивалась расположением их за дивизионами пикинеров. Таким образом, было обеспечено практическое взаимодействие между различными пехотными подразделениями, остававшимися полностью независимыми друг от друга в рамках одного тактического соединения. Это было совершенно иное решение в плане взаимодействия, чем в испанской системе, основанной на организованном сочетании пикинеров и мушкетеров. Против массивных и, следовательно, маломаневренных четырехугольников пехоты, состоящих в среднем по 50 человек в ряд и 50 рядов в глубину – не считая стрелковых четырехугольников по их углам, – Нидерланды выставили более мелкие дивизионы, расположенные в линейном построении. Их эффективность зависела от высокой маневренности, которая давала возможность атаковать крупные группы противника. Обе школы придавали одинаковое значение огнестрельному оружию, однако голландцы использовали его более эффективно[11].
Тактика голландской пехоты, в которой большую роль играла маневренность, требовала многочисленного командного состава, который должен был сначала обучать солдат, а затем командовать ими в бою. Этим требованиям соответствовало последовательное сокращение численности рот, благодаря чему при неизменной численности командного состава улучшалось управление солдатами.
Что касается взаимодействия подразделений, вооруженных холодным оружием, и подразделений, использующих огнестрельное оружие, то голландская кавалерия, в отличие от пехоты, начинала с совершенно противоположной точки отсчета, а именно как единообразно вооруженная кавалерия, основным боевым средством которой было стрелковое оружие. Первоначальная организация эскадронов, которая заключалась во взаимодействии копейщиков, вооруженных тяжелым оружием, и более легкой кавалерии, вооруженной аркебузами, была упразднена в конце 1590-х годов. Копейщики избавились от копий, но сохранили пистолеты, что привело к появлению нового вида тяжелой кавалерии – кирасиров. Аркебузиры со временем были сведены в собственные эскадроны. Низшим тактическим формированием кавалерии, как и в Западной Европе, был эскадрон (fana – знамя), но они часто сводились в формирования более высокого уровня – батальоны. По тем же причинам, что и в пехоте, численность эскадрона была очень низкой и уже в начале 1590-х годов составляла всего 120 человек. Позднее численность эскадрона была еще более сокращена – до 100 человек и менее[12].
Тактика единообразно вооруженной нидерландской кавалерии, как и пехоты, основывалась на сочетании движения и огня, причем залп из огнестрельного оружия производился во время маневра, называемого караколе. После залпа атака холодным оружием производилась довольно редко, поэтому участие кавалерии в сражении не носило подлинно наступательного характера. Благодаря малочисленности голландских эскадронов и их высокой мобильности их удавалось использовать более эффективно, чем это было в случае с испанскими и немецкими (католическими) эскадронами, где построение кавалерии в относительно глубоких четырехугольниках ограничивало возможности маневра и ведения огня.
Именно в военном искусстве Нидерландов Карл IX черпал импульс для реформирования шведских вооруженных сил. Впоследствии они послужили образцом и для Густава II Адольфа.
Армия в период правления Карла IX
В последние годы правления Юхана III принц Карл выступил с рядом инициатив по налаживанию более тесного военного сотрудничества с Нидерландами. Именно по его личной просьбе принц Вильгельм Оранский в 1592 г. дал упомянутое выше разрешение на вербовку в Нидерландах. По указанным выше причинам вполне естественно, что, придя к власти, Карл стремился заручиться помощью голландцев в процессе реформирования армии. Ему также удалось привлечь к сотрудничеству крупнейшего голландского военного теоретика Иоганна, будущего графа Иоганна VII Нассау-Зигенского, который прибыл в Ливонию летом 1601 г. и принял командование шведской полевой армией.
Еще до привлечения Иоганна Нассауского Карл самостоятельно, хотя и в голландском духе, приступил к реформированию армии. Он вполне обоснованно искал отправную точку в разработке новых правил для Военного ордонанса. С этой целью в 1600 г. он внес на рассмотрение риксдага в Нючепинге предложение об установлении бюджета с учетом установленного количества пехоты и кавалерии, которое каждая провинция в будущем должна будет не только выставить, но и содержать в мирное время в соответствии с правилами системы комплектования (indelningsverket). Дополнительно Карл выдвинул предложение организовать lantvärn в роты уже в мирное время. Из-за финансовых последствий риксдаг отклонил первое предложение, так как это означало бы перекладывание расходов на оборону в мирное время с государства на отдельные провинции. Вместо этого было принято второе предложение принца. Риксдаг согласился с тем, что «в каждой провинции в течение года за счет государства должно содержаться определенное количество кавалерии (Hoffmän) и пехоты (knechter) в таком количестве, которое Его Королевское Величество примет и утвердит на основании Военного ордонанса»[13].
Однако это было лишь подтверждением того, что действовало в прежнем Военном ордонансе. Предложение Карла было дополнительно подкреплено заявлением о том, что армия будет содержаться в мирное время за счет государства, а во время войны – за счет отдельных провинций, которые будут содержать воинские части, сформированные в их районах. Крестьяне даже предлагали в целях сокращения расходов отказаться от содержания регулярной армии и вернуться к идее армии, состоящей из крестьянских частей. Все это означало, что принц Карл потерпел неудачу в своей попытке установить конкретную численность армии на будущее, основанную на выделении для этой цели конкретных сумм из государственного бюджета. Поэтому численность армии в будущем напрямую зависела от состояния государственных финансов и согласия риксдага на проведение набора в армию.
На протяжении всего периода его регентского и королевского правления действия Карла отличались известной поспешностью, что не гарантировало армии той стабильности, которая была необходима в мирное время для эффективного проведения реформ. Уже осенью 1600 г. Карл продолжал сражаться против Сигизмунда III Васы в Ливонии, и на протяжении всего его правления Швеция была вовлечена во все более тяжелую войну на востоке, а позже и на юге. Кроме того, Карл не обладал соответствующими личными качествами, необходимыми для командования армией, поэтому он не смог разработать продуманную программу реформ, направленную на достижение конкретной цели, и его энергичные усилия в этом направлении не привели к плодотворному результату. Он постоянно экспериментировал и поэтому не смог обеспечить стабильность.
Уже в ходе войны 1600–1601 гг. Военный ордонанс подвергся серьезному испытанию. Возрождению армии мешал углубляющийся моральный кризис, вызванный чередой военных неудач. В то время национальная армия насчитывала 95 рот, в том числе 68 шведских, 25 финских и 2 эстонских, и 26 эскадронов, в том числе 18, состоявших из шведов и 18 финских. 11 рот и 22 эскадрона были сформированы из иностранных наемников, но их численность была незначительной. Значительное увеличение количества рот стало возможным во многом благодаря масштабному набору весной 1601 г., который стал возможен благодаря поправкам к Военному ордонансу. Тогда удалось призвать в армию 6,5 тыс. призывников в Швеции и 2,5 тыс. в Финляндии, т. е. всего 9 тыс. человек. Средняя численность рот во всей армии достигала 200 человек. Столь же низкая численность наблюдалась и в эскадронах[14].
Причина столь значительного увеличения количества пехотных и кавалерийских подразделений в 1600–1601 гг., несомненно, связана с голландским влиянием. Однако в шведских подразделениях, по финансовым причинам, численность солдат была выше, чем в голландских. О том, что это был экспериментальный этап и что не хватало конкретного плана, свидетельствует тот факт, что Карл не определился с окончательным количеством рот и эскадронов, так что их количество каждый раз определялось текущими условиями. В первых бюджетах, которые применялись только в теории, но не на практике, отдельные подразделения, как правило, имели 500 человек в роте и 300 человек в эскадроне. В основном именно уступки по размеру бюджета, выделяемого на содержание отдельных подразделений, позволили так резко увеличить их численность. Это было почти двукратное увеличение численности по сравнению с тем, что имело место во времена правления Эрика XIV. Но в целом столь быстрое расширение вооруженных сил, которое, тем не менее, носило временный характер, все же не превышало численности армии, существовавшей при Эрике.
Голландское влияние иллюстрируют и изменения, произошедшие в пехоте. Они заключались в том, что основу ее организационной структуры составляли полевые полки. В качестве образца был взят самый маленький тип полка, существовавший в других странах. Он состоял из 4–5 рот и соответствовал «тактическому батальону». Что касается кавалерии, то в организационную структуру полка пока не вносилось никаких изменений.
Реформированный полк, численно уступавший более ранним частям этого типа, принес ощутимые улучшения в управлении, но отклонился от тактических особенностей своего первоначального образца. Не удалось компенсировать отсутствие тяжелой пехоты – пикинеров. Это означало, что в открытом поле пехота была практически полностью беззащитна перед вражеской кавалерией, что вынуждало командиров идти на такие крайние меры, как, например, вооружение стрелков пиками длиной 2,4 или 2,7 м. Для защиты стрелки вбивали их в землю. В некоторых обстоятельствах они играли ту же роль, что и так называемые «свиные перья» (svinfjädrar) в Европе. Иногда пехоте приходилось укрываться за вагенбургом, образованным из обозных телег. Эта тактика применялась до тех пор, пока не была сформирована тяжелая пехота[15].
Снижение боевой ценности пехоты не могло быть компенсировано относительно сильной кавалерией. Ее огнестрельная тактика, основанная на европейских образцах, оказалась неэффективной против комбинированной тактики польских гусар, состоявшей из ружейного залпа и атаки холодным оружием. В ходе непосредственных столкновений шведская кавалерия, применявшая тактику караколе, быстро опрокидывалась лобовой атакой польских гусар, которых поддерживали татарские и казачьи отряды, а также рейтары. Все они обстреливали фланги шведского боевого порядка из огнестрельного оружия, а затем вклинивались в глубь строя. Превосходство польских гусар определялось также их превосходными лошадьми, способными совершать быстрые и неожиданные маневры. Из-за отсутствия пикинеров, а также из-за того, что шведская кавалерия не могла сдержать атаки польских гусар, столкновения с польскими войсками всегда были сопряжены со значительным риском.
Именно такой была шведская армия, которой летом 1601 г. командовал Иоганн Нассауский. Он был опытным военным и сразу заметил имеющиеся недостатки: плохое вооружение кавалерии, отсутствие доспехов и почти полное отсутствие пикинеров в пехоте. Однако Иоганн, выходец из многонациональной наемной армии, служившей в Нидерландах, положительно оценил шведских солдат и их моральный облик: «Благодаря послушанию и тому, что они могли переносить большие труды, голод, жару и мороз и легко могли помочь себе сами, а также потому, что они не имели с собой ни женщин, ни обоза с добычей, они были очень хорошими солдатами». Иоганн открыто признавал, что он мог бы чего-то добиться с этой армией, если бы только в его распоряжении были технические средства. К сожалению, всего не хватало, поэтому граф был вынужден ограничиться организационными реформами. Он провел их и в кавалерии: его полевые войска были разделены на шесть полков, каждый из которых имел по четыре-пять эскадронов. По голландскому образцу численность эскадронов была сокращена до ста всадников. Пехота также была переформирована в семь полков с четырьмя – шестью ротами в каждом. Для прикрытия пехоты было закуплено сто телег, в которые были вставлены пики. Солдаты регулярно проходили учения, хотя в случае с пехотой это давало мало результатов, так как они тренировались без тяжелого вооружения.
Благодаря знаниям Иоганна шведские солдаты стали лучше владеть оружием и искуснее вести бой. Однако боевая ценность подразделений как таковых осталась неизменной, поскольку из-за отсутствия средств армию не смогли вооружить пиками, алебардами и доспехами. Иоганн также избегал прямых столкновений с поляками, поскольку осенью 1601 г. польская армия достигла такой численности, что могла, наконец, перейти в наступление. В конце концов Иоганн устал от своей миссии, так как ее выполнение оказалось невозможным из-за отсутствия достаточных ресурсов. Того, что он получил, было недостаточно для проведения реальных преобразований и реформ[16].
Отставка Иоганна означала, что Карлу придется столкнуться с проблемами, вытекающими из Военного ордонанса. Быстрое увеличение численности армии в 1600–1601 гг. нарушило те фиксированные пропорции, которые он хотел установить на заседании риксдага в 1600 г. Установление фиксированного бюджета для различных формирований, что являлось условием наведения порядка в армии, было осуществлено до конца только в отношении кавалерии, в то время как организационные проблемы пехоты еще предстояло решить. Не удалось также окончательно выровнять пропорции в пехотных подразделениях. Сокращения в армии производились только тогда, когда возникали трудности с содержанием тех или иных частей и подразделений.
Что касается кавалерии, то в начале 1602 г., а возможно, и раньше, до отставки Иоганна, произошел возврат к прежнему статусу, когда численность эскадронов вновь была установлена на уровне 300 человек. Однако уже осенью 1603 г. численность эскадрона была сокращена до 120 человек. Столь значительное сокращение численности личного состава потребовало уравновесить его увеличением количества эскадронов, чтобы кавалерия могла достичь требуемой численности. В результате такого балансирования, проявившегося в 1604 г., Швеция получила 15, а Финляндия – 10 региональных эскадронов (landsfanor). В случае Швеции это означало довольно значительное сокращение региональной кавалерии. Чтобы противостоять этому, в дело вмешался сам король. Он приказал сформировать пять эскадронов fogdefanor общей численностью 600 человек. Общая численность конницы – без учета Hovfanan и эскадронов, выставляемых дворянами в рамках rusttjänst, – должна была составить 2400 человек. Однако оказалось, что fogdefanor существовал только на бумаге, поскольку число всадников в итоге оказалось не очень большим[17].
Вместо этого кавалерия получила большое количество огнестрельного оружия. Это было связано с тем, что по уставу кавалерист должен был дополнить свое вооружение, состоящее из двух пистолетов и карабина, еще одним карабином. Причиной такого изменения стала ошибочная оценка причин превосходства польской кавалерии над шведской. Это изменение не привело к практической корректировке тактики, применяемой шведской кавалерией.
В пехоте, в которой численность рот со времен Юхана III была значительно ниже установленных 500 человек, настало время установить новый бюджет, более соответствующий условиям времени. Уменьшение количества отдельных подразделений происходило в соответствии с тогдашними тенденциями в Европе, где кроме мелких частей, существовавших в голландской военной структуре, имелись преимущественно два типа рот: одна насчитывала 300, другая 200 солдат. Однако установить фиксированную численность при фиксированном бюджете не представлялось возможным. В дальнейшем планируемое количество рот стабилизировалось именно в пределах двух упомянутых типов, больший из которых стал образцом для рот, сформированных из солдат всеобщей воинской повинности, а второй – из солдат национальной вербовки. А так как установившегося баланса в количестве рот добиться не удалось, то трудности с доведением их до полной численности были постоянно. Поэтому королю часто приходилось устанавливать минимальное количество для каждой из рот. В 1603–1605 гг. были также приняты меры по обеспечению пехоты тяжелым вооружением – пиками, алебардами и доспехами. Сейчас невозможно оценить, в какой степени это было сделано, поскольку мы не располагаем конкретными источниками. Известно, что во время битвы при Кирхгольме в 1605 г. пехота была вооружена тяжелым вооружением лучше, чем раньше.
Только после трех лет реформ Карл потерял надежду на то, что ему удастся создать армию, способную к наступательным действиям в рамках существующего Военного ордонанса. Согласно его новой идее, полевая армия в будущем должна была состоять в основном из тяжеловооруженных подразделений. Риксдаг, собравшийся в Норрчепинге в 1604 г., согласился с этим и принял решение о выделении в течение трех лет специальных средств на формирование войска численностью 9 тыс. человек. В наборе войск должны были участвовать как Швеция, так и другие регионы. По истечении трех лет средства от специального налога продолжали использоваться на эти цели, но риксдаг больше не принимал никаких постановлений по этому вопросу. Помимо наемных войск, национальная армия Швеции должна была содержаться в соответствии с доходами государства. Новая система означала ослабление концепции всеобщей воинской повинности, поскольку для получения одобрения риксдага король должен был пообещать в будущем отказаться от призыва или, по крайней мере, придать ему более мягкую форму. Таким образом, шансы сохранить необходимый уровень численности пехоты, укомплектованной на основе всеобщей воинской повинности, уменьшались[18].
Прежде чем формирование наемной армии приняло конкретные очертания, Карл IX приказал, чтобы армия, в которой процесс преобразований еще не завершился, начала готовиться к войне. Причиной такого решения стали напряженные отношения с Данией после неудачных переговоров 1603 г. Карл хотел выиграть войну против Речи Посполитой, чтобы дать себе свободу действий в борьбе со своим вечным соперником с юга. Однако это намерение требовало наличия соответствующей армии, поскольку ни одну войну нельзя выиграть только политикой. Результаты не заставили себя долго ждать. Кампания 1604 г. была неудачна, а в 1605 г. армия Карла IX потерпела тяжелое поражение в битве при Кирхгольме. Потери шведских войск, втрое превосходящих по численности польскую армию, убитыми, ранеными и пленными почти в два раза превышали потери поляков.
Поражение при Кирхгольме усилило комплекс неполноценности среди шведских солдат. Карл IX не умел анализировать и делать правильные выводы, а потому поражение стало для него доказательством того, что его солдаты не способны освоить принципы военного искусства. Поэтому он решил активизировать свои усилия по формированию еще большего количества иностранных войск. Их число увеличивалось из года в год, так что в 1609 г. они насчитывали уже 10 000 воинов. Король потерял интерес к реформированию национальной армии, которая все больше стала напоминать ополчение. Однако ему пришлось выделить большую часть национальных вооруженных сил на нужды летней кампании. Символичным было и сохранение идеи обязательной службы в lantvärn[19].
К началу XVII в. Швеция имела небольшое население (по оценкам, 1 350 000 человек: около 850 000 в Швеции, 350 000 в Финляндии и 150 000 в Эстляндии), неразвитую и плохо монетизированную экономику, а также сельскохозяйственную базу, которая страдала от короткого вегетационного периода. Стремление к статусу великой державы в таких условиях потребовало разработки устойчивой системы набора войск[20].
Целью вербовочной кампании в Швеции было создание элитных частей, которые в сочетании с иностранными наемниками составили бы ядро полевой армии. Однако условия для формирования национальной армии из наемных подразделений ухудшились из-за минорных настроений, царивших в Швеции после поражения под Кирхгольмом. Поэтому при наборе желающих служить были предложены заманчивые условия. С этой целью Карл IX ввел обязательство предоставлять skölderusttjänsten, которое предусматривало набор как в тяжелую пехоту, так и в кавалерию. Эти войска, получившие название Skölderusttjänsten, были совершенно неудачной попыткой обеспечить шведскую армию достаточным количеством тяжелой пехоты (пикинеров) и кавалерии, которых больше всего не хватало Карлу IX, для пополнения полевой армии после поражения при Кирхгольме в 1605 г. Название (связанное со словом «щит») происходит от гербового щита, поскольку добровольцы из этого формирования должны были получить право на использование особого герба.
В манифесте, обращенном к народу, король сообщил о привилегиях, связанных с такой службой. Он заявил, что новое формирование создается для того, чтобы и шведы, и иностранцы могли зарабатывать на службе в армии, и добавил, что у шведского народа должен быть шанс доказать, «что имя готов еще не совсем померкло». Это был явный намек на месть за Кирхгольм. Желающие служить в пехоте и кавалерии, сформированных в рамках skölderusttjänsten, должны были получить пожизненное освобождение от налогов на владения, особое жалованье и жилье, а также право на использование особого герба в национальных цветах, «а именно: голубой и желтый разделенный щит с серебряной вооруженной рукой на заднем плане и двумя серебряными бараньими рогами и тремя коронами на шлеме». Согласно действующему положению, солдаты кавалерии должны были быть вооружены двумя пистолетами, доспехами, палашом и аркебузой, а пехоты – доспехами, мечом и пикой.
Карл IX надеялся, что в рамках skölderusttjänsten ему удастся сформировать 9 эскадронов и 13 рот. Несмотря на активную пропаганду, идея skölderusttjänsten не принесла ожидаемых результатов, поэтому для восстановления поредевшей после поражения при Кирхгольме армии королю пришлось привезти из Ливонии в Швецию 13 рот, которые были сформированы с применением определенной формы принуждения. Эти солдаты также должны были пользоваться некоторыми привилегиями, предназначенными для формирований skölderusttjänsten. Количество желающих завербоваться в кавалерию было недостаточно, поэтому сформировать эскадроны не удалось, и набранные всадники были включены в состав региональных знамен (landsfanor). И все же формирования skölderusttjänsten должны были быть гораздо более многочисленными, чем две роты, которые все еще существовали в 1611 г.[21]
Эксперимент со skölderusttjänsten в Финляндии не проводился. К моменту битвы при Кирхгольме там имелась довольно малочисленная пехота, которая нуждалась в немедленном усилении. В Финляндии структура армии, основанная на правилах, принятых в 1601 г., оставалась в основном неизменной до 1603 г. Рот пехоты, большинство из которых были малочисленны, насчитывалось 25, а эскадронов кавалерии – 11, включая дворянский. В дальнейшем происходило сокращение, и в 1605 г. численность подразделений достигла своего минимума. По данным одного не вполне подтвержденного источника, поздней осенью того года численность пехоты равнялась 795 воинам. И поскольку обычная воинская повинность, основанная на принципе «каждый десятый мужчина – по числу хозяйств», обещала, что количество призывников будет недостаточным, Карлу IX пришлось вмешаться. Он прибегнул к положениям, действовавшим с 1544 г., которые позволяли ему формировать подразделения ополчения в случае необходимости выставить большую армию. Эти правила допускали призыв в двойном размере, то есть каждый десятый и каждый пятый мужчина. Несмотря на обещание, все эти призывники были сведены в так называемые отряды femtemansknektarna (солдаты с призыва каждого пятого) регулярных рот, так что к началу 1606 г. их было уже около четырнадцати. Когда Швеция вмешалась в Русскую смуту, дополнительные задачи были возложены на финскую пехоту, которая в течение нескольких предыдущих лет несла службу в основном в гарнизонах, то есть в крепостях Эстляндии, Ливонии и Карелии. В 1610 г. финские войска насчитывали 26 рот и 10 эскадронов (1400 солдат). В следующем году число рот увеличилось до 34, а число эскадронов осталось неизменным[22].
Следует отметить, что финские войска составляли значительную часть армии Швеции. Эстляндия предоставила немного подразделений, в основном наемных. Формального разграничения территорий Швеции и Финляндии в составе шведского государства не существовало, и с 1570 г. число финских войск (под которыми подразумевались люди, выросшие в Финляндии; там жили и шведы, и финны, и в записях не делается различий между этническим или языковым происхождением) в армии резко возросло, пока финны не стали представлены непропорционально. В 1570 г. было всего 2 финские роты, в то время как шведских было 31. К 1601 г. в армии было 25 финских и 68 шведских рот, а к 1618 г. – 23 финские и 36 шведских рот. В 1630 г. из 30 000 отечественных пехотинцев 12 000 (40 %) и 3250 из 8500 отечественных кавалеристов (38 %) были призваны в Финляндии. В общей сложности, по оценкам, в армии служило 15 % взрослого мужского населения Финляндии.