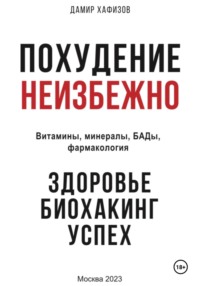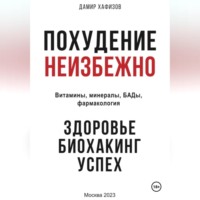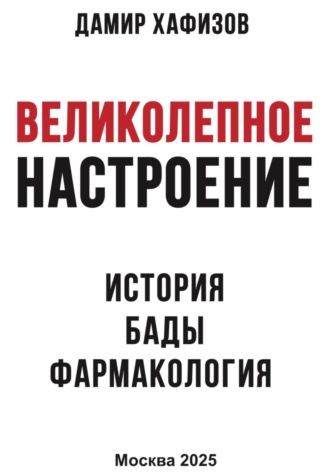
Полная версия
Великолепное настроение. История, бады, фармакология
…Например, если бы оказалось, что органические вещества действительно невозможно получить из неорганических, как думали многие вплоть до опытов Бертло и Бутлерова, то абиогенез пришлось бы признать несостоятельной теорией. Однако этого не происходит. Наоборот, по мере развития науки один за другим проясняются все новые этапы долгого пути от неживой природы к первой клетке.
…
И далее приведена интересная цитата из труда коллег Маркова. Так как же и где возникла первая жизнь?
Гидротермальные источники – колыбель жизни на Земле? Недавно немецким химикам удалось доказать возможность абиогенного синтеза органических веществ в условиях, которые и по сей день существуют на дне океанов. Оказалось, что в подводных горячих вулканических источниках могут происходить химические реакции, в результате которых из неорганических соединений, таких как угарный газ (CO) и цианистый водород (HCN), образуются разнообразные органические молекулы. Катализатором этих реакций служат присутствующие в гидротермальных водах твердые частицы, содержащие железо и никель. Реакции особенно хорошо идут при температуре 80–120 градусов. Условия, в которых проводились эксперименты, были максимально приближены к реальности. По мнению исследователей, такие условия (включая все компоненты реакционной смеси) вполне могли существовать в подводных вулканических источниках на ранних этапах развития Земли.
Основным продуктом реакций были гидроксикислоты и аминокислоты. В небольших количествах были получены и другие органические вещества, в том числе и такие, из которых в несколько иных условиях могут синтезироваться сахара и липиды. В отличие от других известных опытов по абиогенному синтезу органики, где не было железо-никелевых катализаторов и применялись «ударные» воздействия вроде электрических разрядов, в искусственно воссозданных условиях гидротермальных источников реакции протекали без образования «отходов» – инертных углеводородных смесей вроде дегтя или смол, которые в дальнейшем очень трудно превратить в вещества, необходимые для самозарождения жизни.
Открытие немецких химиков – весомый аргумент в пользу гипотезы, согласно которой жизнь на Земле могла зародиться в подводных вулканических источниках.
(Источник: Claudia Huber and Günter Wächtershäuser. α-Hydroxy and α-Amino Acids Under Possible Hadean, Volcanic Origin-of-Life Conditions // Science. 2006. V. 314. P. 630–632.)Обновили ваши знания о рождении вселенной и первой жизни, идем дальше.
Как же раньше жили люди?
Кто мы такие?
Тим Спектор в книге «Мифы о диетах» пишет, что добыча огня и приготовление пищи сделали из нас человека:
«Около двух миллионов лет назад мы совершили эволюционный скачок, в результате чего наш мозг начал расти, а кишечный тракт сократился на треть – в особенности толстая кишка, которая теперь в пропорциональном отношении намного короче. Причиной стало то, что человек научился готовить пищу.
Простая идея использования огня, чтобы изменить состав растений и мяса, превратила нашего предка в человека современного. Начав пользоваться теплом для расщепления сложных крахмалов, содержавшихся в корнеплодах и листьях, мы смогли извлекать энергию и питательные вещества гораздо быстрее, чем прежде. Больше не нужно было тратить большую часть суток, пережевывая пищу подобно коровам, поэтому человек мог позволить себе удаляться от мест обитания и охотиться. Это также означало, что больше не нужно было приводить в действие наш двигатель внутреннего сгорания – очень длинную толстую кишку, тщательно разработанную эволюцией, чтобы длительно переваривать грубые растения.
Уменьшение размеров кишечника позволило нам перенаправить больше энергии и калорий в другие места – прежде всего в мозг. Открытие возможности приготовления пищи и способность легко получать калории теперь считаются ключевыми событиями, запустившими рост человеческого мозга в объеме, что привело к появлению современного человека и со временем к его доминированию на Земле».
…
Стив Лин, в книге «Челюсти» так же пишет интересно о нашей эволюции.
«Приготовление пищи делает ту работу, которую могли бы делать более крупные зубы и более длинный пищеварительный тракт; оно упрощает расщепление, переваривание и получение из пищи питательных веществ. (К примеру, приготовленные яйца усваиваются на 90 %, тогда как сырые – только на 50–60 %). В результате наши челюсти, зубы и внутренности уменьшились, освобождая ресурсы для жадного до энергии мозга.
Обезьяны тратят 17 часов в день, размалывая своими большими челюстями ветви, листья и стебли. Когда наши предки начали есть приготовленное мясо, а также отбивать и разделывать его с помощью примитивных орудий, им стали не нужны большие зубы и мощные жевательные мышцы, которыми приходилось выгрызать питательные вещества из растений. И с того времени, как они начали готовить, пищеварительной системе уже не требовалось столько энергии на переваривание пищи».
…
Пинкер и книга «Лучшее в нас»:
Убивать животных, чтобы есть их мясо, – одно из условий человеческого существования. Наши предки охотились, свежевали добычу и, предположительно, готовили ее уже как минимум 2 млн лет назад, и наши рты, зубы и пищеварительный тракт приспособлены для рациона, включающего мясо. Жирные кислоты и цельный белок мяса обеспечили эволюцию нашего требующего поступления энергии мозга, а доступность мяса способствовала эволюции социальных качеств человека. Для наших предков сорвать куш на охоте значило стать обладателем ценности, которую можно продать или разделить, что готовило почву для взаимного обмена и кооперации: удачливый охотник, раздобывший столько мяса, что его нельзя съесть в один присест, захочет поделиться им в надежде, что в следующий раз, когда повезет другому, тот его тоже не обидит. Мужчины добывали мясо, женщины собирали растительную пищу, и это взаимовыгодное сотрудничество создавало дополнительную – помимо очевидных – связь между ними. Мясо было для мужчины эффективным способом внести родительский вклад в своих детей и укрепить семейные узы.
Об экологической значимости мяса на всем протяжении эволюции нашего вида говорит и психологическая важность мяса в жизни человека. Поедание вкусного мяса вызывает приятные ощущения. В ряде традиционных культур желание отведать мяса обозначается специальным словом, а прибытие охотника с добычей становится поводом для деревенского праздника. Удачливых охотников уважают, они ведут более активную сексуальную жизнь – иногда пользуясь своей популярностью, иногда прямо обменивая одно плотское удовольствие на другое. К тому же в большинстве культур трапеза не считается праздничной, если на столе нет мяса.
(Запах жаренного на углях мяса, согласно Библии, есть «приятное благоухание» и «благоухание, приятное Господу».)
…
К чему привело наше мясоедство?
Юваль Ной Харари в своём знаменитом «Sapiens» пишет о доказательствах и последствиях нашего образа жизни охотников собирателей. На примере Австралии, Северной и Южной Америк, где после появления человека исчезали целые виды животных.
«След ноги первого человека, высадившегося на песчаном австралийском берегу, тут же смыла волна, однако, продвигаясь в глубь материка, пришельцы с каждым километром оставляли иной отпечаток, который уже было не вытравить ни воде, ни векам… На пути им встречалось множество неведомых зверей, например двухсоткилограммовый кенгуру ростом под два метра и сумчатый лев, размерами не уступавший современному тигру – крупнейшему хищнику этой новой земли. На деревьях сидели коалы – такие громадные, что никому бы не пришло в голову их потискать и погладить, а по равнинам носились табуны бескрылых птиц вдвое крупнее страуса. В высокой траве скользили ящерицы, смахивавшие на драконов, и змеи пятиметровой длины. В лесах рыскал гигантский дипротодон – вомбат весом в две с половиной тонны. Все эти животные (разумеется, кроме пресмыкающихся и птиц) были сумчатыми: детеныши у них рождались крошечными и беспомощными, словно эмбрионы, а затем донашивались в «кармашке» на животе. Сумчатые животные принадлежат к классу млекопитающих, то есть вскармливают свое потомство молоком. Таких существ в Африке и Азии почти не водилось, но в Австралии они господствовали безраздельно. Прошло несколько тысячелетий – и все это великолепие исчезло. Из двадцати четырех видов австралийских животных – некоторые их представители весили более полутонны – уцелел только один. Погибло и много видов помельче. По всей Австралии прежние пищевые цепочки были разорваны и сформировались новые. После миллионов лет поступательного развития экосистема Австралии стремительно и пугающе преобразилась. Виновен ли в этом Homo sapiens?». Виновен по всем статьям.
Далее, продолжение, но уже про северную и южную Америку:
«Стоило появиться сапиенсам – и за два тысячелетия большинство уникальных видов исчезли без следа. Современные исследователи считают, что Северная Америка лишилась 34 из 47 видов крупных млекопитающих, Южная – 50 из 60. Исчезли саблезубые тигры, безраздельно царившие в этих местах более 30 миллионов лет. Пропали гигантские ленивцы и огромные львы, американские лошади и верблюды, мамонты и грызуны-великаны. Вымерли тысячи млекопитающих помельче, рептилии, птицы и даже насекомые и паразиты (когда не стало мамонтов, за ними последовали и все виды их клещей)».
Человек уничтожает фауну:
Если прибавить к массовому исчезновению видов Австралии и Америки не столь масштабные катастрофы, происходившие на пути Homo sapiens, пока он расселялся по Африке и Азии (в том числе загадочное исчезновение остальных видов человека и вымирание значительной части живого при появлении древних охотников на отдаленных островах вроде Кубы), то напрашивается неизбежный вывод: первая волна колониальной экспансии сапиенсов стала самой страшной – и самой стремительной – катастрофой в истории земного животного мира. Хуже всего пришлось большим и мохнатым. Перед когнитивной революцией на планете обитало около 200 видов крупных наземных животных (весом от 40 килограммов и выше). До аграрной революции дотянуло только 100. Homo sapiens расправился с половиной крупных обитателей Земли задолго до того, как изобрел колесо и письменность или научился обрабатывать железо.
Экологическая трагедия многократно повторялась и после аграрной революции, хотя и в меньших масштабах. Археологические исследования островов являют ту же трагедию в трех действиях: сначала мы видим разнообразную и многочисленную популяцию крупных животных в отсутствие человека; во втором действии появляются следы человека: кость, наконечник копья, осколок глиняного сосуда. В третьем действии на авансцене – люди, а большинства крупных животных, а также многих мелких уже поминай как звали.
Самый известный пример – большой остров Мадагаскар примерно в 400 километрах к востоку от Африки. За миллионы лет изоляции там сложился уникальный природный мир: разгуливала нелетающая «птица-слон» – эпиорнис, ростом 3 метра и весом полтонны, обитали крупнейшие на Земле приматы – гигантские лемуры. И эпиорнисы, и лемуры, и большинство других крупных животных внезапно исчезли 1500 лет тому назад – именно тогда, когда на острове появились люди.
В Тихоокеанском регионе вымирание различных видов животных началось около 1500 лет до н. э., когда земледельцы Полинезии добрались до Соломоновых островов, Фиджи и Новой Каледонии. Они стали прямой или косвенной причиной гибели сотен видов пчел, насекомых, моллюсков и других местных обитателей. Постепенно эта волна уничтожения распространялась на восток, на юг и на север, в самое сердце Тихого океана, смывая с лица земли уникальную фауну Самоа и Тонга (1200 лет до н. э.), Маркизских островов (I век н. э.), острова Пасхи, островов Кука и Гавайев (V век н. э.) и, наконец, Новой Зеландии (XIII векн. э.).
Аналогичные катастрофы происходили практически на каждом из тысячи островов Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного моря. На самых маленьких островах археологи обнаруживают следы птиц, моллюсков и насекомых, которые жили там из поколения в поколение, но исчезли, когда появился человек. Лишь немногие дальние острова, не удостоивавшиеся внимания человека вплоть до современной эпохи, сохранили свою фауну. Самый распространенный пример – Галапагосские острова, где человек поселился только в XIX веке. Там сохранился уникальный зверинец с гигантскими черепахами – они так же не боятся людей, как не боялись дипротодоны.
Изучая итоги первой волны глобального вымирания, совпавшей с расселением охотников-собирателей, и второй, которой сопровождалось расселение земледельцев, мы лучше поймем перспективы третьей волны, что поднялась на наших глазах вслед за индустриализацией. И не верьте сентиментальным всхлипам – дескать, вот предки наши жили в согласии с природой. Какое уж там согласие – сплошной диссонанс. Задолго до промышленной революции человек стал причиной гибели большинства видов животных и растений. Мы – самый смертоносный вид в анналах биологии.
…
Куда делись Мамонты? Отвечает Харари:
В Арктике обитало множество крупных вкусных животных, в том числе северные олени и мамонты. Каждый мамонт был для охотников целой ходячей мясной лавкой. В условиях вечной мерзлоты мясо сохранялось долго, люди получали вкусный жир, теплую шкуру и ценную мамонтовую кость. Находки в Сунгире показывают, что охотники на мамонтов не просто выживали на холодном севере – они процветали.
Та же участь постигла и популяцию мамонтов на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане (в 200 километрах от побережья Сибири). Миллионы лет мамонты водились практически во всех регионах Северного полушария, но по мере того, как на этой территории распространялся Homo sapiens – сначала в Евразии, потом в Северной Америке, – ареал обитания мамонта сужался. 10 тысяч лет назад мамонта уже нельзя было встретить нигде за пределами дальних арктических островов, и основная популяция сохранилась только на острове Врангеля. Там косматые слоны благоденствовали еще несколько тысяч лет, а 4 тысячи лет назад вдруг исчезли – именно тогда, когда на этот остров явились люди.
…
Крупные животные оказались главными жертвами, потому что их было относительно мало и они размножались медленно. Возьмем для сравнения мамонтов (которые вымерли) и кроликов (которые выжили). Стадо мамонтов насчитывало несколько десятков особей и пополнялось всего двумя детенышами в год. Если местное племя охотников убивало хотя бы трех мамонтов в год, этого было достаточно, чтобы смертность перекрыла рождаемость и через несколько поколений мамонты исчезли. Кролики же, напротив, плодились как кролики. Даже если люди убивали их сотнями, кроличьему роду это не грозило уничтожением.
Наши предки, конечно же, не планировали истребить мамонтов – просто не ведали, что творят. Вымирание мамонтов и других крупных животных было быстрым в масштабах эволюции, но медленным и постепенным в глазах человека. Люди жили максимум семьдесят-восемьдесят лет, в то время как процесс вымирания длился веками. Древние сапиенсы, вероятно, не видели никакой связи между ежегодной охотой на мамонтов – ну, съели двух-трех, не больше – и исчезновением этих мохнатых великанов. Разве что ностальгирующие старики рассказывали недоверчивым внукам: «В моем детстве мамонтов было много, не то что теперь. А еще мастодонтов и гигантских лосей. И вожди были достойными, и молодежь чтила старших».
…
Харари повторно объясняет причину вымирания крупных животных:
Во-первых, крупные животные, которые в первую очередь стали жертвой этой катастрофы, размножаются медленно. Беременность длится много месяцев, детенышей в одном помете мало, между беременностями проходит много времени. Соответственно, если люди убивали даже одного дипротодона раз в несколько месяцев, уже и этого хватило, чтобы смертность в популяции превысила рождаемость и через несколько тысячелетий последний дипротодон скончался в одиночестве, а с его смертью исчез и вид.
…
Согласитесь, куда проще было завалить быка на охоте и получить с одной туши десятки тысяч ценных калорий, чем ждать целый год, когда, например, вновь даст плоды фруктовое дерево с относительно небольшим количеством калорий.
…
Профессор Марков в книге «Эволюция Человека» приводит очень интересные цифры исчезновения крупных видов животных, к которым причастен человек охотник:
В общей сложности ученые насчитали 177 видов крупных млекопитающих, вымерших в интервале от 132 до 1 тыс. лет назад либо полностью, либо на одном из континентов (18 видов вымерло в Африке, 38 – в Азии, 26 – в Австралазии, 19 – в Европе, 43 – в Северной Америке, 62 – в Южной Америке). Самое интенсивное вымирание (как по абсолютному числу видов, так и по процентной доле) происходило на юге Южной Америки, на юго-востоке Северной Америки, в Европе и Австралии. Минимальный уровень вымирания отмечен в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии.
Статистический анализ показал, что объяснить наблюдаемую географическую структуру вымираний одними лишь климатическими изменениями невозможно. В глобальном масштабе обнаруживается лишь слабая связь между амплитудой климатических изменений и уровнем вымирания. Причем эта связь достоверна только для Евразии и только для данных по температуре (но не по осадкам), а на остальных континентах вообще никакой корреляции между климатом и вымиранием не прослеживается. Например, в Южной Америке, где уровень вымирания был максимален, климат менялся вообще незначительно. В целом климат может объяснить лишь 20 % региональных различий по уровню вымирания. Гораздо большей предсказательной силой обладают модели, основанные на истории заселения регионов людьми (такие модели объясняют до 64 % различий).
……Приходится признать, что характерное для последних веков и тысячелетий крайне низкое разнообразие или полное отсутствие крупных млекопитающих на большей части суши – вовсе не “естественное” состояние вещей, а прямой результат истребления мегафауны нашими предками.
…
В книге «Ружья микробы и сталь» Джаред Даймонд пишет похожее:
Заселение Австралии / Новой Гвинеи возможно было связано с еще одним из первых событий (помимо первого использования морских судов и первого расширения ареала человека после колонизации Евразии): первым массовым истреблением людьми крупных видов животных. Сегодня, представляя себе континент, где водятся крупные млекопитающие, мы по умолчанию думаем об Африке. Многие виды крупных млекопитающих обитают и в современной Евразии (пусть и не в таком изобилии, как на территории африканских саванн Серенгети) – это азиатские носороги, слоны и тигры, европейские лоси, медведи, а также (до классической эпохи) львы. В Австралии и на Новой Гвинее сопоставимых по размеру млекопитающих не существует – здесь нет никого крупнее 100-фунтовых кенгуру. А ведь в свое время общий для них праматерик обладал собственным набором крупных зверей, включая гигантских кенгуру, носорогоподобных сумчатых (дипродонтов), достигавших размера коровы, и сумчатого «леопарда». Его также населяли 400-фунтовые нелетающие птицы, похожие на страусов, плюс несколько громадных рептилий, в том числе ящер весом в тонну, гигантский питон и сухопутные крокодилы.
Все эти австралийские / новогвинейские гиганты (так называемая мегафауна) исчезли после появления людей. Хотя в вопросе о точном времени их исчезновения нет единодушия, тщательное изучение материалов нескольких австралийских раскопок, где возраст ископаемых достигает десятков тысяч лет и где содержатся огромные залежи костных остатков животных, не выявило ни единого следа вымерших гигантов за последние тридцать пять тысяч лет. Следовательно, наиболее вероятно, что мегафауна перестала существовать на континенте вскоре после того, как сюда добрались люди.
Почти одновременное исчезновение столь многих крупных видов ставит перед нами очевидный вопрос о его причине. Очевидный ответ возлагает ответственность за это на первых колонизаторов, которые либо истребили крупных животных своими руками, либо обрекли их на смерть косвенно. Вспомните, что среда, в которой миллионы лет протекала эволюция австралийских / новогвинейских животных, животных, не включала в себя людей-охотников. Известно, что галапагосские и антарктические птицы и млекопитающие, также развивавшиеся вдали от людей и впервые увидевшие их только несколько столетий назад, несмотря ни на что по-прежнему ведут себя как ручные. Они были бы обречены на уничтожение, если бы защитники природы своевременно не настояли на принятии мер по их охране. На других сравнительно недавно открытых территориях, где охранные меры не были реализованы достаточно быстро и эффективно, полного истребления избежать не удавалось: одна из его жертв, птица дронт с острова Маврикий, стала настоящим символом вымирания живой природы. Кроме того, о любом хорошо изученном океанском острове, где люди появились еще в доисторическую эпоху, мы знаем, что за человеческой колонизацией всегда следовал резкий скачок вымирания видов – это и новозеландские моа, и мадагаскарские гигантские лемуры, и большие нелетающие гавайские гуси. Очень вероятно, что так же, как наши недавние предки запросто приближались к не ждущим подвоха дронтам или островным морским котикам и убивали их, доисторические люди запросто приближались к не научившимся осторожности моа или гигантским лемурам и делали то же самое.
Таким образом, первым приходящим на ум объяснением гибели австралийских и новогвинейских гигантов становится предположение, что 40 тысяч лет назад их постигла та же участь. Соответственно, большинству млекопитающих Африки и Евразии удалось дожить до современной эпохи, [2] потому что их эволюция сотни тысяч и даже миллионы лет происходила бок о бок с эволюцией человека. Это значит, у них было достаточно времени, чтобы выработать страх перед человеком, пока тот медленно совершенствовал свои первоначально невыдающиеся охотничьи навыки. Дронты, моа, как и, скорее всего, гигантские животные Австралии / Новой Гвинеи, имели несчастье внезапно, без всякой эволюционной подготовки, столкнуться с вторгшимися на их территорию людьми современного типа, которые уже достигли высокого уровня в искусстве охоты.
Лично мне трудно представить, почему австралийские гиганты, которые пережили бессчетное число засух за десятки миллионов лет своего существования, выбрали для своего вымирания момент, который почти точно (если брать миллионолетнюю шкалу времени) и просто случайно совпал с появлением на их территории первых людей. При этом гиганты вымерли не только в засушливой Центральной Австралии, но и на избыточно влажных юго-востоке континента и Новой Гвинее. Они вымерли во всех климатических зонах без исключения, от пустынь до прохладных и влажных тропических лесов. Поэтому мне кажется наиболее вероятным, что мегафауна была уничтожена именно людьми, как прямо (путем убийства для добычи пропитания), так и косвенно (в результате пожаров и антропогенной трансформации среды обитания).
…
Пинкер «Лучшее в нас»:
Вид, к которому мы принадлежим, называется «человек современного анатомического типа», его возраст – 200 000 лет. Но «поведенчески современные» люди – с искусством, обрядами, одеждой, сложными инструментами и способностью жить в разных экосистемах – появились, вероятно, около 75 000 лет назад в Африке и вышли оттуда, чтобы заселить весь остальной мир. Когда вид только возник, люди жили маленькими кочевыми группами, состоящими из равноправных родственников, добывали пропитание охотой и собирательством, не зная ни письменности, ни правительства. Сегодня подавляющее большинство людей живут в оседлых стратифицированных обществах, насчитывающих миллионы человек, едят пищу, поставляемую сельским хозяйством, и подчиняются государственной власти. Этот переход, который называют Неолитической (относящейся к новокаменному веку) революцией, начался около 10 000 лет назад с возникновения земледелия в районе Плодородного полумесяца, а также в Китае, Индии, Западной Африке, Мезоамерике и в Андах.
…
Джаред Даймонд в книге «Мир позавчера» пишет следующие цифры:
«Переход от охоты и собирательства к земледелию начался всего лишь около 11,000 лет назад; первые металлические орудия были изготовлены примерно 7,000 лет назад, а первое государство и первая письменность возникли лишь около 5,400 лет назад».
…
Стивен Пинкер в книге «Просвещение продолжается» упоминает важный момент о том, какие были фрукты и овощи во времена наших предков до появления селекции: