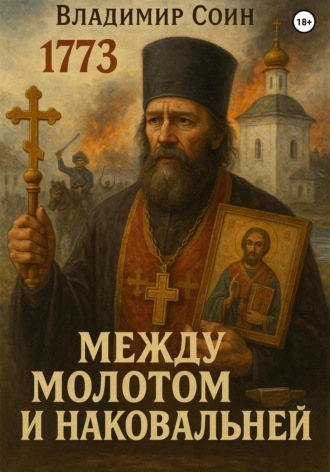
Полная версия
Между Молотом и Наковальней
Позже, когда тени в храме сгустились, а часовые у входа начали клевать носом, Власьев напился. Его лицо раскраснелось, глаза заблестели, но в них не было веселья – только мутная, пьяная злоба. Он подошёл к Данило вплотную, так близко, что тот почувствовал жар его дыхания, пропитанного смертью и самогоном. Власьев положил тяжёлую руку на плечо Данило, и тот невольно вздрогнул, словно его коснулась сама тьма. – Видишь, отец… – прохрипел Власьев, качнувшись. – Я тоже когда-то стоял у алтаря. Молился, кадил, пел псалмы… А теперь я ближе к народу, чем ты. Его голос был полон горечи, но в нём звучала и странная гордость, как у человека, который знает, что продал душу, но считает, что сделал это ради благой цели. Данило посмотрел ему в глаза и увидел там пустоту – не ту, что рождается от отчаяния, а ту, что приходит, когда человек перестаёт быть человеком. – Данило: – Ближе к народу или к его страхам? Слова вырвались сами, острые, как нож, и на мгновение Данило пожалел о них. Но Власьев не разозлился. Он засмеялся – хрипло, надрывно, и этот смех эхом отразился от стен храма, как вой зверя. Смеясь, он плюнул на пол, и плевок, густой и жёлтый, растёкся по доскам, словно пятно греха. – Страх – единственный бог, которого они понимают, – сказал он, и его голос стал тише, почти шепотом. – И ты это знаешь, отец. Ты просто боишься признать. Власьев отступил, качнувшись, и вернулся к столу, схватив флягу. Данило стоял, не в силах пошевелиться, чувствуя, как слова Власьева оседают в его душе, как пепел. Он знал, что Власьев прав – страх был повсюду, он был в глазах крестьян, в треске льда, в вое ветра. Но Данило не хотел, чтобы этот страх стал его богом. И всё же, глядя на кинжал на престоле, на пятна крови на рясе Власьева, он чувствовал, как его вера тает, как воск под огнём.
7 января 1774 года. Деревня Малиновка
Пепел над Малиновкой
Деревня Малиновка, притаившаяся в низине у излучины Камы, в тот январский день казалась вырванной из мира живых. Снег, что устилал её поля и крыши, был не белым, а серым, пропитанным пеплом от недавних пожаров, что пожрали соседние сёла. Избы, сложенные из потемневших брёвен, стояли неровно, словно пьяные, и их окна, затянутые бычьими пузырями, смотрели на мир слепыми глазами. Над деревней висел тяжёлый запах гари, смешанный с сыростью речного воздуха и едким духом страха, что пропитал всё – от заиндевевших заборов до дыхания её жителей. Ветер, холодный и резкий, нёс с собой далёкий вой собак и редкие удары колокола из соседнего села, будто кто-то звонил по мёртвым. Малиновка жила в ожидании беды, и беда не заставила себя ждать.
Данило ехал в Малиновку на старой кобыле, чьи рёбра проступали под шкурой, как клавиши разбитого органа. Его сопровождали трое помощников, выбранных Власьевым, – молчаливые, с лицами, обветренными до синевы, и глазами, в которых не было ни жалости, ни сомнений. Их звали Прокоп, Лука и Ефим, но Данило не пытался запомнить их имена – они были для него не людьми, а тенями, что следовали за ним, как вороны за падалью. Дорога, разбитая телегами и копытами, вилась через лес, чьи сосны, покрытые инеем, стояли неподвижно, словно часовые на страже могил. Ветви скрипели под ветром, и этот звук напоминал Данило шепот его собственных мыслей: «Ты идёшь предавать. Ты идёшь убивать». Он сжимал поводья так сильно, что кожа на ладонях покраснела, и молился про себя, но слова молитвы путались, как нитки в руках неумелой швеи. Крест на его груди, холодный и тяжёлый, бил по рёбрам в такт шагам кобылы, будто напоминая: Бог видит всё, даже то, что Данило пытался скрыть от самого себя.
Когда они въехали в Малиновку, деревня встретила их тишиной – не той, что приносит покой, а той, что предшествует удару топора. На площади, у старого колодца, собрались жители – человек тридцать, не больше. Старики, чьи спины сгорбились от работы и горя, женщины, прижимающие к себе детей, и несколько мужчин, чьи руки всё ещё пахли землёй и смолой. Их лица были серыми, как снег под ногами, а глаза – пустыми, словно кто-то выжег в них всякую надежду. У колодца стояла телега, на которой лежала икона Богородицы, но её лик был закрыт грязной тряпкой, будто даже святые отвернулись от Малиновки. Данило спешился, чувствуя, как ноги подкашиваются, и шагнул к толпе. Его помощники остались позади, держа руки на саблях, и их взгляды, холодные и цепкие, шарили по лицам крестьян, выискивая тех, кто осмелится поднять глаза.
– Данило: – Братья и сёстры… – начал он, но голос его был слабым, как тростник на ветру. – Я пришёл с указом… Присягнуть Петру Фёдоровичу… Слова падали в тишину, как камни в колодец, и не находили отклика. Толпа молчала, но в этом молчании было больше, чем в любой молитве. Данило видел их страх, их усталость, их боль. Он видел вдову с младенцем, чьи губы посинели от холода, старика с обрубком вместо руки, мальчика, чьи босые ноги кровоточили на снегу. Он хотел сказать им правду, хотел крикнуть, что не верит в этого «царя», что его сердце разрывается, но за его спиной стояли Прокоп, Лука и Ефим, и их сабли были острее любых слов.
Один человек в толпе шагнул вперёд – старик по имени Семён, чья борода была белой, как снег, а глаза – ясными, как у ребёнка. Он был кузнецом, когда-то ковал подковы для барских лошадей, но теперь его руки, покрытые мозолями, сжимали лишь деревянный крест, вырезанный из осины. – Семён: – Не присягну, батюшка, – сказал он, и его голос, твёрдый и низкий, разнёсся над площадью, как звон колокола. – Не знаю я никакого Петра. Знал одного – да его задушили. А этот… Этот не от Бога. Толпа ахнула, но никто не двинулся. Прокоп, стоявший за спиной Данило, положил руку на саблю, и лезвие тихо звякнуло, как предупреждение. Данило почувствовал, как холод пробежал по спине, но он поднял руку, останавливая своего «помощника». – Данило: – Семён… подумай о других. О детях. О жёнах. Он говорил тихо, почти умоляюще, но в его голосе была боль, которую он не мог скрыть. Семён посмотрел на него, и в его глазах не было страха – только усталое понимание. – Семён: – Я думал, батюшка. Всю жизнь думал. И решил – лучше умереть человеком, чем жить псом. Слова старика ударили Данило, как плеть. Он хотел ответить, хотел увести Семёна, спасти его, но Прокоп уже шагнул вперёд, и его сабля сверкнула в тусклом свете. Данило закричал, но было поздно – лезвие вошло в грудь Семёна, и старик упал на снег, сжимая свой крест. Кровь, тёмная и горячая, растеклась по серому снегу, и толпа закричала – не от гнева, а от ужаса. Женщины закрывали глаза детям, мужчины отводили взгляды, но Данило не мог отвести глаз. Он смотрел на Семёна, на его крест, на кровь, и чувствовал, как его вера рушится, как храм, подожжённый изнутри.
К вечеру Малиновка горела. Прокоп, Лука и Ефим, не слушая Данило, ворвались в дома тех, кто молчал во время присяги. Они вытаскивали людей на площадь, били их прикладами, а тех, кто сопротивлялся, рубили саблями. Данило стоял у колодца, сжимая в руках кадило, что давно потухло, и смотрел, как пламя пожирает избы. Крики женщин и детей смешались с треском горящего дерева, а дым, чёрный и густой, поднимался к небу, словно жертва, которую никто не примет. Он видел, как Лука тащит за волосы молодую девку, как Ефим бьёт старика, как Прокоп поджигает соломенную крышу. Он хотел остановить их, хотел броситься в огонь, но ноги его не слушались. Он лишь шептал: – Данило: – Господи, прости… Господи, за что… Но Бог молчал. Только ветер, несущий пепел, отвечал ему, забивая горло и глаза. Данило упал на колени, глядя на икону Богородицы, что всё ещё лежала на телеге. Тряпка с её лика упала, и он увидел глаза Матери – скорбные, полные слёз, будто она оплакивала не только своего Сына, но и Малиновку, и его самого.
Когда огонь угас, а крики смолкли, Данило остался один на пепелище. Его помощники уехали, забрав с собой награбленное – мешки с зерном, иконы, даже медные кресты, снятые с шеи убитых. Снег вокруг был чёрным от пепла, а воздух – тяжёлым от запаха смерти. Данило бродил среди развалин, пока не наткнулся на тело Семёна. Старик лежал на спине, глядя в небо, и его крест, обагрённый кровью, всё ещё был зажат в руке. Данило опустился рядом, взял крест и прижал его к груди. – Данило: – Прости меня, Семён… Прости, что не смог… Он плакал, впервые за многие годы, и слёзы, горячие и солёные, замерзали на его щеках. Небо над Малиновкой было тёмным, без единой звезды, словно Бог закрыл глаза, не желая видеть, что стало с Его миром. Данило встал, сжимая крест Семёна, и пошёл прочь, не зная, куда идёт, но чувствуя, что каждая его молитва отныне будет лишь эхом в пустоте.
6 января 1774 года. Ижевский завод
Ижевск отказывается подчиниться
Ижевский завод в тот морозный день 1774 года стоял как крепость, окружённая не только снегом, но и невидимой стеной упрямства и гордости. Его цеха, громоздкие и закопчённые, вздымались к небу, словно каменные исполины, рождённые из огня, пота и неукротимой воли людей, что дышали железом. Из труб валил чёрный дым, густой и тяжёлый, он поднимался к низким облакам, сливаясь с ними, будто завод пытался спрятаться от глаз Бога и людей. В воздухе висел запах раскалённого металла, смешанный с едким духом угля и сыростью, что тянулась от замёрзшей Камы. Молоты в цехах били в унисон, их ритм был подобен сердцебиению гиганта, а искры, вылетавшие из-под наковален, сверкали в полумраке, как звёзды, упавшие на землю, чтобы осветить путь тем, кто отказался сдаваться. Люди работали молча, их лица, покрытые сажей и шрамами, были суровы, а глаза горели решимостью. Это молчание было громче любого крика, оно говорило: «Пока бьют молоты, мы живы. Остановка – это смерть». Ижевск не просто работал – он дышал, он сопротивлялся, он жил вопреки всему.
Цеха завода, сложенные из грубого камня, стояли неровно, словно вырастая прямо из земли, как древние курганы. Их стены, почерневшие от копоти, хранили следы бесчисленных пожаров, но ни один огонь не смог сломить их. Внутри цехов было жарко, несмотря на январский мороз: горны пылали, как адские печи, а воздух дрожал от зноя и грохота. Кузнецы, литейщики, подмастерья – все двигались в одном ритме, как части единого механизма. Их руки, покрытые мозолями и ожогами, сжимали клещи, молоты, тигли, а лица, обожжённые жаром, блестели от пота. В этом хаосе огня и железа была своя гармония, своя святость. Каждый удар молота, каждый шипящий кусок металла, погружённый в воду, был молитвой – не к Богу, а к самой жизни. За воротами завода лежал мир, полный крови и лжи, но здесь, среди искр и дыма, люди сохраняли нечто большее – свою душу. Они знали: если молоты замолчат, если дым перестанет подниматься из труб, Ижевск падёт, а с ним – всё, за что они боролись.
Илья Колокольников, староста завода, стоял у горна, вытирая сажей широкое лицо, изрезанное морщинами, словно старое дерево. Его глаза, серые и холодные, как сталь, которую он ковал, смотрели на огонь с такой же яростью, с какой он смотрел на врагов. Его руки, покрытые старыми ожогами, сжимали клещи – те самые, что много лет назад вырвали из огня его отца, погибшего в литейной яме, когда расплавленный металл хлынул на пол. Илья был не просто старостой – он был сердцем завода, его волей, его гневом. Его рубаха, пропитанная потом, прилипала к широким плечам, а голос, хриплый от криков и дыма, звучал как удар молота. Рядом, на грубой скамье, сколоченной из обрезков досок, сидел отец Алексий, священник, чья ряса давно утратила свой цвет, став серой от нагара. Его пальцы, чёрные, как уголь, перебирали чётки, вырезанные из кости, но он не молился вслух. Его молитвы были другими – это были удары молота, шипение металла, ритм работы, что держал Ижевск на плаву. Алексий был худ, почти иссох, но в его глазах, глубоко посаженных, горел огонь, который не могли погасить ни мороз, ни страх.
– Илья (бросая в горн кусок руды): – Пугачёв – не царь. Он – смерд с чужим именем, что нацепил корону из лжи. Его голос был резким, как скрежет железа, и в нём не было сомнений. Он говорил так, будто выковывал каждое слово, как подкову, – твёрдо, безжалостно. – Отец Алексий (не поднимая глаз): – Но у него тысячи таких же смердов. Голодные, злые, с саблями в руках. Их знамя – не крест, а пустой желудок. Алексий говорил тихо, но его слова были тяжёлыми, как свинец. Он не смотрел на Илью, но его пальцы замерли на чётках, будто он ждал ответа. – Илья (стуча кулаком по наковальне): – А у нас – честь. Она крепче железа, крепче их сабель. И я скорее сгорю в этом горне, чем преклоню колени перед самозванцем. Удар кулака эхом разнёсся по цеху, и искры из горна взметнулись к потолку, словно подчёркивая его слова. Алексий наконец поднял глаза, и в них мелькнула тень улыбки – не весёлой, а горькой, как у человека, который знает, что битва неизбежна, но всё ещё верит в победу.
В молитвенной комнате, где когда-то читали псалмы и пели тропари, теперь пахло углём и потом. Стены, покрытые копотью, хранили следы старых икон, что были сняты и спрятаны, чтобы не осквернить их присутствием тех, кто пришёл говорить о войне. На грубом столе, сколоченном из досок, лежал лист с приказом Пугачёва, мятый и грязный, словно его топтали сапогами. Чёрные буквы, выведенные неровным почерком, гласили: «Присягнуть или сгореть». Свечи, расставленные на столе, горели неровно, их пламя дрожало, отбрасывая тени на лица мастеров, собравшихся здесь. Эти люди – кузнецы, литейщики, оружейники – были сердцем завода, его костями и кровью. Их руки, покрытые шрамами и мозолями, создали тысячи подков, плугов, а теперь – и ружей, что могли бы повернуть ход войны. Но их лица, изборождённые морщинами и копотью, были суровы, а глаза горели не страхом, а решимостью.
– Кузнец Григорий: – У них пушки, батя Илья. У нас – молотки да клещи. Что мы против их орды? Его голос был низким, как гул горна, но в нём дрожала тревога. Григорий, широкоплечий, с бородой, тронутой сединой, сжимал в руках молот, будто готов был броситься в бой прямо сейчас. – Литейщик Федот: – Молоток, Гриша, может и голову расколоть, если бить метко. А мы умеем бить. Федот, худой и жилистый, с глазами, что блестели, как расплавленный металл, усмехнулся, но его усмешка была больше похожа на оскал. Он знал цену словам – и цену крови. – Отец Алексий (вставая): – Мы не поднимем оружие первыми. Это не наш путь. Но и не преклоним колени перед ложью. Ижевск – не просто завод. Это наша вера, наша правда. И если им нужен огонь, мы дадим им огонь – но не тот, что ждёт их. Алексий говорил медленно, но каждое его слово было как удар молота – тяжёлым, неотвратимым. Он обвёл взглядом мастеров, и их лица, освещённые дрожащим светом свечей, ответили ему молчаливым согласием. Они не были воинами, но были мужчинами, которые знали, что значит держать слово и защищать свой дом.
К закату под стенами завода появились всадники – десятки, а может, и сотни, их чёрные знамёна трепетали на ветру, как крылья ворон. Их кони, худые и взмыленные, топтались в снегу, а всадники, закутанные в рваные шубы и казацкие бурки, кричали, угрожали, стреляли в воздух. Их голоса, хриплые от мороза и ярости, требовали открыть ворота, присягнуть «царю Петру», отдать оружие и припасы. Но Илья Колокольников, стоя на стене, лишь сплюнул в снег и приказал запереть ворота. Железные засовы, выкованные в цехах завода, лязгнули, как вызов. Завод ответил молчанием – но это было молчание стали, готовой встретить врага. Молоты в цехах продолжали бить, их ритм не сбился ни на миг, а искры, вылетавшие из горнов, казалось, летели в лицо врагам, как вызов. Из труб валил дым, густой и чёрный, и он поднимался к небу, словно сам завод дышал презрением к тем, кто пришёл его сломить.
Ночью пугачёвцы подожгли склады на окраине. Пламя взметнулось к небу, окрашивая снег багровым светом, и его отсветы плясали на стенах цехов, как демоны. Крики казаков, их хохот и выстрелы разносились над полями, но люди Ижевска не бежали. Они вышли из цехов, из домов, из молитвенной, и встали плечом к плечу, передавая вёдра с ледяной водой из рук в руки, как священные чаши. Мужчины, женщины, даже дети – все работали в молчании, их лица были суровы, а руки не дрожали. Они тушили огонь, не позволяя ему перекинуться на цеха, на дома, на их жизнь. К утру склады догорели, но завод стоял невредимым, а дым из его труб всё так же поднимался к небу, как знамя непобеждённых.
На воротах, тяжёлых и покрытых ржавчиной, висела табличка, выкованная Григорием в ту же ночь. Её буквы, грубые, но чёткие, были вырезаны в железе, и они гласили: – «Верны – не перед троном, а перед собой».
Эта надпись, холодная и твёрдая, как сталь, была ответом Ижевска – не только Пугачёву, но и всему миру, что пытался согнуть его. Завод не склонился, не дрогнул, и его молоты продолжали бить, как сердце, что не знает страха.
7 января 1774 года. Шермитский завод Яковлева
Захват завода. Кровь на снегу
Шермитский завод Яковлева, приютившийся в низине у подножия Уральских гор, в то утро 1774 года был окутан тишиной, которую разрывали лишь редкие вздохи ветра да далёкий скрип деревьев. Его цеха, сложенные из грубого камня, стояли, словно крепости, а трубы, чёрные от копоти, дымились лениво, как дыхание спящего великана. Снег, покрывавший крыши и тропы, был чистым, почти сияющим, но эта чистота была обманчивой – она скрывала следы усталости, страха и отчаяния, что пропитали землю завода. Люди здесь жили трудом, их руки, покрытые мозолями и ожогами, ковали железо, которое держало их семьи, их дома, их веру. Но в тот день железо не спасло их. Рассвет, что окрасил небо багровыми полосами, принёс не свет, а смерть.
Утро началось не с привычного пения петухов или звона заводского колокола, а с лязга сабель, топота копыт и хриплых криков, что разорвали тишину, как нож рвёт холстину. Казаки ворвались в деревню, окружавшую завод, словно стая волков, изгнанных голодом из лесных чащ. Их кони, худые, с пеной на мордах, топтали снег, превращая его в грязное месиво, а их знамёна, чёрные и рваные, трепетали на ветру, как крылья смерти. Крики казаков: «Кто не присягнул – тому смерть!» – эхом разносились над крышами, врываясь в дома, где люди ещё пытались укрыться от беды. Завод, ещё минуту назад спавший под снежным покровом, застонал от боли, как живое существо, чьё сердце пронзили копьём. Окна изб дрожали от топота, а дым из труб, что всегда поднимался ровно, теперь клубился хаотично, словно сам завод задыхался от ужаса. Женщины прижимали к себе детей, мужчины хватались за топоры и вилы, но их оружие было бессильно против ярости, что обрушилась на Шермитский.
Атаман Кудашев, молодой, но уже закалённый в кровавых походах, носился между цехами на вороном коне, чьи глаза горели так же безумно, как глаза его хозяина. Его лицо, изуродованное оспой, напоминало потухший вулкан – грубое, покрытое шрамами, но всё ещё полное скрытой мощи. Длинные волосы, чёрные и слипшиеся от грязи, выбивались из-под папахи, а в глазах, холодных и острых, как лезвие, не было ни жалости, ни сомнений – только огонь, что сжигал всё на своём пути. Кудашев не кричал, как другие атаманы, – его голос был низким, шипящим, как раскалённое железо, опущенное в ледяную воду. Он правил своими людьми не словом, а взглядом, и этого было достаточно, чтобы заставить их рубить, жечь и убивать.
– Кудашев (указывая на мастеровых): – Вяжите их! Кто сопротивляется – рубите! Его слова падали, как удары бича, и казаки бросились исполнять приказ, хватая рабочих, что выбегали из цехов, ещё сжимая в руках клещи и молоты. Один из мастеровых, старик с седой бородой, чьё лицо было покрыто морщинами, как старое дерево, попытался загородить путь. Его звали Матвей, он проработал на заводе сорок лет, и его руки, что ковали плуги и подковы, дрожали не от страха, а от гнева. – Мы не бунтовали! – крикнул он, глядя Кудашеву в глаза. – Мы молчали! Дайте нам жить! Кудашев остановил коня, и на его лице мелькнула улыбка – холодная, как зимний ветер. Он выхватил пистолет, чья рукоять была обмотана кожей, и прицелился в старика. – Молчание – это и есть бунт, – сказал он, и его голос был таким же острым, как выстрел, что последовал за словами. Пуля пробила грудь Матвея, и он упал на снег, даже не вскрикнув. Его кровь, тёмная и густая, растеклась по белому покрову, как чернила, пролитые на чистый лист. Казаки захохотали, но их смех был пустым, как вой ветра в пустой избе.
Казаки согнали всех, кто отказался присягать, на площадь перед заводом. Здесь, у старого дуба, чьи ветви гнулись под тяжестью инея, собрались мужчины, женщины, старики и дети. Их лица были серыми от холода и страха, а дыхание вырывалось облачками пара, что тут же растворялись в морозном воздухе. Среди них был мальчик лет девяти, худой, с обветренными щеками, прижимавший к груди маленькую иконку Николая Чудотворца. Её деревянная рамка была потёртой, но лик святого сиял, как луч света в этом мраке. Мальчик, которого звали Колька, смотрел на Кудашева не с мольбой, а с вызовом, и его пальцы так сильно сжимали икону, что костяшки побелели.
Кудашев заметил его и, спрыгнув с коня, подошёл ближе. Его сапоги хрустели по снегу, оставляя глубокие следы, а сабля на поясе тихо звякала, как предупреждение. Он вырвал икону из рук Кольки, и мальчик закричал – не от страха, а от ярости, что вспыхнула в его детском сердце. – Верни! – крикнул он, бросившись к атаману. – Это бабушка мне дала! Она велела хранить! Кудашев посмотрел на икону, и его губы искривились в презрительной усмешке. Он швырнул её в костёр, что уже пылал посреди площади, пожирая документы завода, книги и деревянные обломки. Огонь жадно лизнул лик Николая Чудотворца, и святой, казалось, смотрел на мир с немым укором, пока пламя не превратило его в пепел. Колька упал на колени, его крик перешёл в сдавленный плач, и он протянул руки к костру, будто мог спасти икону. Но огонь был быстрее, и вместе с иконой, казалось, сгорела душа мальчика. Он сидел на снегу, глядя в пустоту, а казаки вокруг смеялись, их голоса были грубыми, как лай собак. Женщина, что стояла рядом – мать Кольки, – хотела броситься к сыну, но казак ударил её прикладом, и она упала, прижимая к груди младшего ребёнка. Площадь наполнилась стонами, но никто не осмелился поднять голос – страх сковал их, как лёд сковывает реку.
Но не все склонили головы. Кузнец Артём, человек с руками толщиной в оглоблю и лицом, изрезанным шрамами от искр и металла, не собирался сдаваться. Он стоял у входа в цех, сжимая свой молот, чья рукоять была отполирована его ладонями за годы работы. Его глаза, тёмные и горящие, смотрели на казаков с такой ненавистью, что даже Кудашев на миг остановился. Артём был не просто кузнецом – он был легендой завода, человеком, чьи подковы считались лучшими в уезде, чьи плуги пахали самую твёрдую землю. Он знал, что завод – это не просто камни и железо, это их дом, их жизнь, их честь.
– Забирайте своё железо, псы! – крикнул он, и его голос перекрыл шум костра и крики казаков. – Но завод наш! Не отдам! С этими словами он бросился на ближайшего казака, размахнувшись молотом. Удар был таким мощным, что череп врага треснул, как глиняный горшок, и казак рухнул в снег, не издав ни звука. Но Артём не успел нанести второй удар – трое казаков набросились на него, их сабли сверкнули в свете костра. Он отбивался, как медведь, окружённый собаками, но удар приклада в затылок свалил его на землю. Артём упал, его кровь, горячая и алая, растеклась по снегу, как ручей, что пробивается сквозь лёд. Перед тем как потерять сознание, он прохрипел, глядя в небо: – Завод наш… Не отдам… Казаки пинали его, смеясь, но их смех был нервным – они видели в глазах Артёма то, чего боялись сами: непреклонность, что не сломить ни саблей, ни огнём. Его утащили в сторону, связав верёвками, как зверя, но даже в беспамятстве он сжимал кулаки, будто всё ещё держал свой молот.
К полудню казаки ушли, оставив за собой руины и смерть. Они увели пленных – тех, кто ещё мог идти, – забрали мешки с зерном, инструменты, даже иконы, что нашли в домах. Цеха, что ещё утром гудели от работы, теперь пылали, их каменные стены трещали от жара, а крыши обрушивались с оглушительным грохотом. Дым, чёрный и густой, поднимался к небу, застилая солнце, и его тень падала на снег, как саван. Площадь перед заводом была усеяна телами – тех, кто сопротивлялся, и тех, кто просто оказался на пути. Кровь, замерзая, покрывалась коркой льда, и её алые пятна на белом снегу были похожи на цветы, что никогда не распустятся. Женщины, оставшиеся в живых, рыдали, собирая обгоревшие иконы и куски одежды, а дети, чьи глаза уже не могли плакать, смотрели в пустоту, как Колька, потерявший свою икону.
Среди развалин, под обгоревшими балками одного из цехов, нашли табличку, выкованную Артёмом ещё при прежнем хозяине завода. Она была небольшой, но тяжёлой, из чистого железа, и её надпись, грубая, но гордая, гласила: «Железо гнётся, но не ломается». Огонь искорёжил металл, буквы покрылись копотью, но слова всё ещё можно было прочесть, словно сама сталь отказалась сдаваться. Один из уцелевших рабочих, старик с обожжёнными руками, поднял табличку и прижал её к груди, как святыню. Он не плакал – его слёзы высохли ещё в тот момент, когда увидел тело Артёма, но его губы шептали: – Не сломались… Не сломались…





