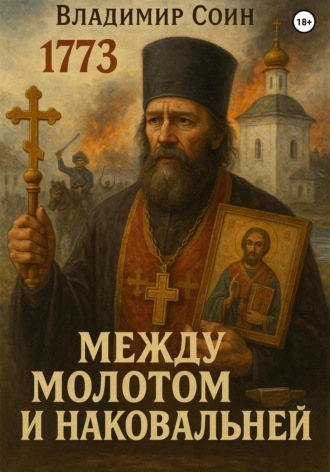
Полная версия
Между Молотом и Наковальней

Владимир Соин
Между Молотом и Наковальней
Между молотом и наковальней
Декабрь 1773 года. Сарапульский уезд. Село Берёзовка.
Зима в Сарапульском уезде в тот год легла на землю тяжёлым саваном, будто само небо решило укрыть мир от грядущей беды. Село Берёзовка, приютившееся на изгибе Камы, казалось забытым Богом и людьми – лишь дым из печных труб да редкий лай собак напоминали, что здесь ещё теплится жизнь. Дома, сложенные из потемневших брёвен, стояли неровно, словно усталые старики, цепляющиеся друг за друга, чтобы не упасть под напором ветра. Вдалеке, за рекой, чернел лес, чьи ветви скрипели под тяжестью инея, как кости под гнётом могильной земли.
Мороз в ту зиму не просто пришёл – он вторгся, будто незваный гость, чьё дыхание вымораживает саму душу. Не с неба он спустился, а словно вырос из-под земли, подобно чертополоху, что пробивается сквозь трещины в могильных плитах, цепляясь за жизнь там, где её быть не должно. Река Кама, ещё вчера дышавшая тёплым паром над незамерзающими полыньями, за одну ночь покрылась льдом. Лёд этот был не белым, как обычно, а серым, мутным, словно река перед смертью выдохнула всю грязь, что веками копилась на её дне. Деревья, обрызганные инеем, стонали под ветром, их ветви гнулись, будто седые старики, застывшие в низком поклоне перед невидимым гробом. Даже вороны, обычно крикливые и наглые, молчали, прижавшись к печным трубам. Их чёрные клювы, всегда блестящие, как обсидиан, теперь покрылись ледяной коркой, словно природа запечатала им рты, запретив разносить вести о надвигающейся беде. В воздухе висела тишина – не та, что приносит покой, а та, что предвещает бурю.
Над селом возвышалась колокольня Покровской церкви, одинокая и хмурая, словно палец, указующий в пустое небо, где не было ни Бога, ни надежды. Колокол, отлитый ещё во времена царя Алексея Тишайшего, треснул прошлой весной, и трещина, словно нож, рассекла надпись «Спаси» на его бронзовом боку, оставив лишь обрубок – «…и». Отец Данило, настоятель церкви, знал: чинить колокол никто не станет. Не потому, что в селе не хватало денег – медь и олово нашлись бы. Причина была в страхе, что сковал сердца людей. «Кто колокол чинит в смуту, тот новый гроб себе куёт», – шептались старухи на паперти, крестясь дрожащими пальцами. Теперь в трещине поселился ветер. Каждую ночь он выл, тонкий и жалобный, как голос ребёнка, потерявшегося в метели. Этот звук будил Данило, заставляя его вслушиваться: не зовёт ли ветер того, чьё имя никто не осмеливался произнести вслух? Не его ли, самозванца, что назвался Петром Фёдоровичем, ждала эта тьма?
Отец Данило не спал уже третью ночь. В его келье, тесной и холодной, пахло воском от оплывших свечей и чем-то ещё – едким, почти осязаемым страхом. Этот запах оставался после долгих молитв, когда слова, произнесённые вслух, словно растворялись в воздухе, не достигая небес. На столе, покрытом грубой холстиной, лежало письмо от брата-монаха из Уфы. Бумага пожелтела, чернила выцвели, но слова всё ещё резали глаз: «Беги, пока не поздно. Здесь уже горят сёла, где попы не присягнули…». Данило перечитал письмо шесть раз, и каждый раз буквы казались всё тяжелее, будто их писали не пером, а ножом. Шесть раз он вставал, подходил к узкому окну, за которым спало село, и смотрел на тёмные силуэты домов. Каждый из них хранил его тайны: в этом доме он крестил Мишку-сироту, в том – отпевал Марфу, умершую в родах, а вон там, за покосившимся пряслом, выслушивал исповедь кузнеца, который бил жену-пьяницу, но плакал, как ребёнок, прося прощения. Бежать? Это значило предать их всех – тех, кто смотрел на него с надеждой, тех, кто ждал от него благословения. Остаться? Это значило благословить ложь, принять сторону тех, кто называл себя спасителями, но нёс лишь кровь и хаос. Данило сжал крест на груди так сильно, что дерево впилось в кожу. Выбора не было – только крест и топор, и он балансировал между ними, как канатоходец над пропастью.
Накануне Данило приснился отец – сельский дьячок, умерший от горячки, когда Данило был ещё мальчишкой. Во сне отец не говорил ни слова. Его лицо, измождённое и серое, как речной лёд, было неподвижно, но пальцы – длинные, костлявые – медленно водили по страницам Псалтыри. Они останавливались на строке: «Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». Данило проснулся в холодном поту, сердце колотилось, словно молот в кузнице. Он зажёг свечу и открыл Псалтырь, лежавшую на столе. Книга раскрылась на той самой странице, на той самой строке. Случайность? Или знак? А может, ветер, гулявший по келье, перевернул страницы? Данило не знал. Он лишь смотрел на слова, выведенные чёрной тушью, и чувствовал, как они обволакивают его, словно дым от погребального костра. В ту ночь он впервые подумал, что Бог, возможно, уже не слушает его молитв.
Они явились на рассвете, когда солнце, бледное и холодное, висело в небе, словно замерзший желток в треснувшей скорлупе. Трое: двое молодых, с лицами, обветренными до синевы, и старик, чьи глаза были пусты, как выгоревшие угли. На старике был барабан, обтянутый кожей – слишком светлой, слишком гладкой, чтобы быть звериной. От одного взгляда на неё Данило почувствовал, как холод пробежал по спине. Старик бил в барабан костяшками пальцев, не торопясь, не крича, не требуя внимания. Звук был низким, тяжёлым, он разрывал морозный воздух, как нож – холщёвый мешок, и эхо его разносилось по селу, будя спящих и заставляя собак выть от ужаса.
– Глашатай (старик):
– По указу Петра Фёдоровича, Божьей милостью императора всероссийского… – голос старика скрипел, будто колодезный журавль, ржавый и усталый.
– …всяк, кто не примет присягу, есть изменник и еретик…
– …казнить через повешение, имение в казну…
Он протянул Данило лист с печатью. Бумага была мятая, с бурыми пятнами, и пахла не воском, а палёным мясом. Данило взял её дрожащими пальцами, и на мгновение ему показалось, что печать – не просто воск, а запёкшаяся кровь, принявшая форму креста.
Пока глашатай говорил, Данило заметил на его шее цепь – тяжёлую, серебряную, с медальоном, точь-в-точь как у воеводы Строганова, которого зарубили под Оренбургом в прошлом году. Слухи о его смерти долетели до Берёзовки ещё осенью: говорили, что тело воеводы нашли в овраге, с перерезанным горлом, а цепь его пропала. «Откуда у этого бродяги дворянская вещь? Украл? Снял с трупа?» Мысль ударила Данило, как колокольный язык по рёбрам. Он вгляделся в лицо старика, в его морщины, в пустые глаза, и на миг ему почудилось, что это сам Строганов – мёртвый, но вставший из гроба, чтобы потребовать правды. Данило перекрестился, прогоняя морок, но сердце всё равно билось неровно, словно предчувствуя, что прошлое уже дышит ему в затылок.
К вечеру село загудело, как потревоженный улей. На площади, у колодца, шептались крестьяне, их голоса были приглушёнными, но полными ужаса.
– Староста:
– Слыхал, в Каракулино поп отказался присягнуть – так ему кишки на икону намотали, а церковь спалили…
– Кузнец:
– А в Лобановке девок пущали по кругу перед расстрелом… Говорят, самозванец своих людей не держит, они как звери…
– Жена старосты:
– Батюшка, вы же нас не оставите? Вы же знаете, что делать…
Данило стоял у алтаря, сжимая в руках дароносицу. Внутри неё лежали просфоры, испечённые вчера вдовой Татьяной – женщиной с усталыми глазами и мозолистыми руками. Её сын, пятнадцатилетний Федька, смотрел на него снизу вверх, обмотав шею старым шарфом, на котором виднелись пятна крови. Мальчишка подавился, когда впервые попробовал самогон, и теперь кашлял, но всё равно пришёл в церковь, ища у батюшки защиты. Данило чувствовал на себе его взгляд – тяжёлый, как камень. «Господи, как я могу благословить убийц? Но как я могу подписать смерть этим людям, этим детям?» Он закрыл глаза, но вместо молитвы в голове звучали слова глашатая, смешанные с воем ветра.
Ночью, когда луна, выщербленная и острая, как старый топор, повисла над селом, кто-то поджёг амбар купца Силуянова. Пламя взметнулось к небу, окрашивая снег багровым светом. Данило выбежал из кельи, сжимая крест, но опоздал. В огне уже хрустели кости старика Евтиха – сторожа, который когда-то учил его, мальчишку, ловить рыбу на Каме. Евтих был добродушным, с морщинистым лицом и смешливыми глазами, но теперь от него осталась лишь горстка пепла да обугленные кости. На снегу, у пепелища, лежала икона Николая Угодника. Лик святого был цел, но глаза его кто-то выжег раскалённым гвоздём, оставив чёрные, дымящиеся ямы. Данило упал на колени, глядя на икону, и почувствовал, как холод земли проникает в его тело, словно сама смерть обняла его.
– Зачем Ты дал мне эту ношу? – прошептал он, поднимая глаза к почерневшему кресту над алтарём.
Ответа не было. Только ветер, холодный и злой, донёс с реки запах гари. Или это был голос Бога, молчаливый и суровый, оставивший Данило один на один с его судьбой?
Январь 1774 года. Село Чесноковка
Зарубин-Чика и его «графство» В селе Чесноковка, затерянном среди снежных пустошей Сарапульского уезда, власть Зарубина-Чики казалась одновременно нелепой и пугающей, как тень великана, отбрасываемая карликом. Избы, покосившиеся от времени и ветра, жались друг к другу, словно боялись остаться наедине с зимой. Над селом витал запах дыма и горелого жира, смешанный с резким духом страха, что пропитал всё – от бревенчатых стен до заиндевевших ресниц крестьян. В центре села, на площади, где когда-то стояла часовня, теперь возвышалась импровизированная резиденция Зарубина – изба, украденная у местного старосты, с крышей, покрытой рваным войлоком, и окнами, затянутыми бычьими пузырями. Здесь, в этом убогом подобии дворца, Зарубин провозгласил себя «графом» – хозяином судеб, палачом и судьёй.
Лавка, что служила Зарубину троном, была водружена на два бочонка с прогнившими обручами, которые скрипели под его весом, будто жаловались на свою участь. Этот трон, шаткий и жалкий, был символом его власти – громоздкой, но хрупкой, готовой рухнуть от малейшего толчка. На Зарубине красовалась соболья шуба, содранная с убитого воеводы Бирска. Мех, некогда роскошный, теперь пропитался запахом затхлой крови и грязи, а серебряные нити на полах потускнели, измазанные сажей. Зарубин приказал вырезать герб рода Бирских с подкладки и заменить его грубо вышитым знаком: перекрещённые сабля и крест, связанные красной нитью, словно кровавым следом. «Бог и сталь – вот моя печать», – говорил он, сплёвывая на утоптанный земляной пол сквозь стиснутые зубы. Его голос, хриплый от табака и крика, звучал как скрежет железа, а глаза, тёмные и глубоко посаженные, смотрели на мир с холодной яростью, будто он видел в каждом человеке врага или добычу. Зарубин не был высок, но его присутствие заполняло комнату, как дым от костра, – удушливое, неотвратимое.
У стены, в тени, стояла девка в казацкой рубахе, слишком большой для её худого тела. Её звали Агафьей, но казаки, глумясь, прозвали её «графиней» – насмешка, что резала больнее плети. Рубаха, грубая и застиранная, когда-то принадлежала сыну купца, чьё тело теперь гнило на виселице за отказ отдать зерно. Агафья не поднимала глаз, её голова была опущена, а длинные волосы, некогда русые, теперь слиплись от грязи и мороза. Её губы, потрескавшиеся до крови, едва шевелились, шепча молитву, услышанную в детстве от матери: «Спаси и сохрани…». Но к кому она взывала? К Богу, чьё имя звучало всё реже в этих краях? К Зарубину, чья милость была так же редка, как тёплый день в январе? Или к призраку своего брата, убитого казаками за дерзкий взгляд? Агафья не плакала – слёзы замёрзли в её душе, как вода в колодце. Она стояла, словно тень, готовая раствориться в холодном воздухе, но её присутствие, молчаливое и тяжёлое, напоминало Зарубину о цене его власти. За столом, сколоченным из церковных дверей, на которых ещё виднелись следы резьбы – лики святых, стёртые топорами, – сидели казаки. Они ели в тишине, нарушаемой лишь звяканьем ложек о деревянные миски. Каша, жидкая, как болотная вода, с редкими зёрнами, пахла плесенью, но казаки хлебали её жадно, словно боялись, что даже эта скудная еда исчезнет, унесённая морозным ветром. Их лица, обожжённые холодом, были покрыты шрамами и сажей, а глаза блестели от голода и злобы. Зарубин ел медленно, вылавливая ложкой зёрна, будто каждое из них было трофеем. Он помнил голодные зимы в барской конюшне, где крысы, жирные и наглые, казались лакомством. Тогда он мечтал о хлебе, а теперь кормил крыс человечиной – и в этом была его справедливость, его месть миру, что заставил его ползать на коленях. Он смотрел на своих людей и видел в них себя – голодных, озлобленных, готовых рвать глотки за миску каши или за миф о свободе. – Завтра в Чуровку, – сказал Зарубин, вытирая рот рукавом шубы, отчего на меху остался жирный след. – Там медный склад. Выжгите тех, кто молчит. Его голос был ровным, почти ленивым, но в нём звенела сталь. Писарь, худой, сгорбленный, с глазами, воспалёнными от бессонницы, записал приказ кривыми буквами на куске бересты. Он не поднял взгляда, не спросил, зачем жечь людей за молчание. Он знал: в мире Зарубина молчание – это вызов, ответ, который карается смертью. Писарь, чьё имя никто не помнил, был тенью своего господина, его руками, что превращали слова в кровь. Он дрожал, но не от холода – от страха, что однажды его собственное молчание станет приговором. Когда село уснуло, Зарубин вышел за избу, закутанный в шубу, что пахла смертью. Луна висела над лесом, круглая и белая, как отрубленная голова, а её свет падал на снег, превращая его в море серебряных игл. Зарубин набил трубку дешёвым табаком, чей едкий дым резал горло, и долго смотрел на небо, где звёзды казались такими же холодными, как его сердце. – Пётр Третий… – прошептал он, выдыхая дым, что тут же растворялся в морозном воздухе. – Ты там, а я – здесь. И мы оба – вымышленные. Он знал, что Пугачёв – не царь, не воскресший Пётр, а такой же беглый, как он сам, человек, сотканный из лжи и отчаяния. Но Зарубин также знал, что голодные мужики, чьи рёбра торчали под рваными рубахами, верят не в истину, а в миф. Мифы были их хлебом, их саблями, их огнём. И Зарубин ковал этот миф, как кузнец куёт железо, – из собственной боли, из собственной лжи, из крови тех, кто осмеливался сомневаться. Он затянулся ещё раз и сплюнул в снег. Пора было возвращаться – завтра Чуровка, завтра новый костёр.
2 января 1774 года. Храм Покрова. Село Берёзовка
Присяга в Берёзовке Село Берёзовка в тот день утопало в снегу, а небо над ним было серым, словно грязная холстина, натянутая над гробом. Снег под ногами не хрустел звонко, как в ясные дни, а скрипел глухо, будто земля стонала от боли. Храм Покрова, старый и потемневший от времени, стоял в центре села, его купол, покрытый зелёной патиной, казался единственным пятном цвета в этом мире серости и холода. У крыльца храма собрались все: старики с руками, покорёженными годами тяжёлой работы, женщины, прижимающие к груди иконы с потускневшими ликами, дети, чьи глаза горели не любопытством, а страхом – животным, первобытным. Они стояли молча, как овцы перед закланием, а ветер, холодный и злой, свистел в щелях церковных стен, нашептывая: «Выбора нет. Выбора не будет». Запах ладана, что обычно витал в храме, теперь смешивался с запахом мокрой шерсти и человеческого пота – запахом толпы, ждущей своей судьбы. Над селом нависло небо, тяжёлое и неподвижное, словно оно решило придавить Берёзовку своей тяжестью. Облака, низкие и рваные, цеплялись за верхушки сосен, а снег падал медленно, словно нехотя, укрывая землю саваном, под которым уже не осталось тепла. Колодец на площади покрылся коркой льда, и даже ворона, что сидела на его срубе, молчала, будто боялась нарушить тишину. Люди, собравшиеся у храма, не смотрели друг на друга – их взгляды были прикованы к земле, к своим ногам, к чему угодно, лишь бы не видеть лиц соседей, в которых отражался их собственный страх. Ветер нёс с реки запах сырости и гниющей рыбы, и этот запах, смешанный с дымом от печных труб, казалось, предупреждал: что-то грядёт, что-то неотвратимое. Отец Данило поднялся на крыльцо храма, ощущая, как ризы давят на плечи, будто сшиты не из парчи, а из свинца. Его лицо, бледное и осунувшееся от бессонных ночей, было покрыто мелкими морщинами, а глаза, обычно тёплые, теперь казались пустыми, как выжженные угли. Два стрельца из отряда Зарубина-Чики стояли по бокам, словно псы, готовые рвать глотки по первому приказу. Их ружья, покрытые зазубринами от старых боёв, были направлены не в небо, а в спины прихожан, напоминая, что милосердие здесь – роскошь, которой никто не дождётся. Данило взглянул на толпу и узнал каждого, будто их лица были вырезаны в его сердце ножом. – Вдова Татьяна, чьи три сына погибли в турецких кампаниях, держала икону Казанской Божьей Матери. Эта икона, потемневшая от времени, когда-то спасла её дом от пожара, но теперь её лик казался скорбным, словно Богоматерь оплакивала не только Христа, но и само село. – Кузнец Игнат, чьё лицо было изъедено оспой, сжимал медный крест – подарок жены, умершей от чахотки. Его руки, привыкшие к молоту и наковальне, дрожали, и не от холода. – Мальчик Федька, тот самый, что подавился самогоном, прятал за спиной обрывок верёвки. Может, он хотел сплести из неё силок для птиц, а может, уже думал о петле – в его глазах было что-то взрослое, пугающее. Данило смотрел на них и чувствовал, как его душа рвётся пополам: он был их пастырем, но сегодня – и их палачом. – Братья и сёстры… – начал Данило, но его голос, слабый и надтреснутый, утонул в гробовой тишине. Только лёд в колодце откликнулся – треснул, будто земля разверзлась под ногами. Он говорил о Петре, о присяге, о «новой воле», что обещал самозванец, но слова казались чужими, словно их вложили ему в рот, как яд. Он развернул свиток с указом, и бумага зашелестела, как крылья мёртвой птицы, попавшей в силок. Толпа молчала, но в этом молчании было больше слов, чем в любой молитве. Данило чувствовал их взгляды – тяжёлые, как камни, и каждый из них спрашивал: «Почему ты, батюшка, ведёшь нас на заклание?» Он пытался вспомнить Писание, найти в нём утешение, но в голове звучали лишь слова Псалтыри: «Страх и трепет нашел на меня». Бабка Арина, сгорбленная, как корень векового дуба, не склонила головы, когда Данило призвал к присяге. Её глаза, мутные от старости, горели упрямым огнём. Её муж, капрал Ермолай, служил при Петре III и видел, как царя душили шарфом в Ропше. Арина была с ним в тот день, когда тело Петра везли в закрытом гробу, и она знала правду, которую не могли заглушить ни сабли, ни указы. – Не мой он царь, – сказала она, и её голос, хриплый, но твёрдый, разнёсся над площадью громче колокола. – Покойного хоронила я. Не врал он мне с того света. Стрелец, чьё лицо было скрыто под низко надвинутой шапкой, шагнул к ней, подняв приклад ружья. Но Данило, движимый инстинктом, преградил ему путь. – Она стара, – сказал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Я сам с ней поговорю. Он солгал. Он не собирался говорить с Ариной. Он боялся её слов, боялся, что они, как искры, разожгут огонь в сердцах других. Арина посмотрела на него, и в её взгляде не было ни злобы, ни страха – только усталое понимание, будто она уже видела его судьбу. После присяги, когда толпа начала расходиться, к Данило подошёл мальчик лет семи, с лицом, обветренным до красноты. Его шапка, слишком большая, сползала на глаза, а руки были спрятаны в рукава рваного тулупа. – Батюшка, а если завтра опять другой царь будет, мы снова клясться будем? – спросил он, глядя на Данило с такой серьёзностью, что тот почувствовал, как сердце сжалось. В этом мальчике Данило увидел Федьку – того самого, что подавился самогоном, того, чьи глаза уже знали слишком много для его возраста. Он хотел ответить, найти слова, что утешат, но горло перехватило. Он лишь положил руку на плечо мальчика и отвернулся, боясь, что тот увидит в его глазах правду: никто не знает, сколько ещё царей придётся клясться, и сколько ещё крови прольётся за эти клятвы.
5 января 1774 года. Сарапул
Встреча с Власьевым
Сарапул, некогда шумный городок на берегу Камы, в январе 1774 года походил на раненое животное, что ещё дышит, но уже не способно подняться. Мороз сковал реку, превратив её в серую, потрескавшуюся дорогу, по которой никто не осмеливался ходить – говорили, что лёд стонет по ночам, как души утопленников. Улицы, где ещё недавно звенели колокольчики торговых подвод и раздавался смех детей, теперь утопали в грязи и снегу, смешанных с кровью и пеплом. Дома, когда-то аккуратно выбеленные известью, почернели от копоти, словно их обуглили изнутри невидимым пламенем. Над городом висел тяжёлый запах гари, смешанный с едким духом страха, что пропитал всё – от деревянных заборов до дыхания людей. Ветер, холодный и злой, нёс с собой обрывки молитв и проклятий, будто сам воздух стал свидетелем падения Сарапула.
Данило шёл по главной улице, с трудом переставляя ноги в тяжёлых валенках, что промокли от талого снега. Его ряса, некогда чёрная, теперь покрылась серыми пятнами, а крест на груди казался невыносимо тяжёлым, будто его отлили из свинца. Вокруг кишели люди – солдаты в рваных мундирах, чьи лица были покрыты шрамами и сажей, крестьяне с пустыми глазами, что тащили мешки с последним зерном, и бродяги, чьи лохмотья едва держались на исхудавших телах. На перекрёстке, у старой липы, валялась икона Спаса Нерукотворного, брошенная кем-то в грязь. Её лик был иссечён сабельными ударами, словно кто-то пытался вырезать из дерева саму святость. В пронзённой ладони Спасителя торчала бутылка из-под водки, мутная и треснутая, как насмешка над всем, во что Данило когда-то верил. Он отвёл взгляд, не в силах остановиться. Он знал: если посмотрит в эти вырезанные глаза, то увидит в них себя – человека, который всё ещё носит крест, но уже не верит в его силу. Каждый шаг отдавался в груди болью, будто город-призрак шептал ему: «Ты один из нас. Ты тоже мёртв».
Храм Вознесения, где Данило когда-то крестил младенцев и венчал молодых, теперь был не святыней, а логовом. Его стены, покрытые трещинами, словно морщинами старика, хранили следы пуль и копоти. Купол, некогда сиявший золотом, потускнел, а крест на нём покосился, будто готовый рухнуть под тяжестью грехов, что творились внутри. У входа стояли двое часовых, больше похожих на разбойников, чем на солдат. Их пики были обрезаны, а лезвия покрыты ржавчиной и засохшей кровью. Один из них, с лицом, изуродованным оспой, сплюнул Данило под ноги, но ничего не сказал – его глаза, мутные от самогона, говорили яснее слов: «Ты здесь никто». Внутри храма не осталось ничего от былой святости. Запах ладана, что когда-то наполнял воздух, вытеснили вонь пота, перегара и страха – едкая, почти осязаемая. Алтарь, где некогда лежало Евангелие, был завален картами, свитками и пустыми флягами, а на престоле, где совершалась литургия, теперь лежал окровавленный кинжал. Его рукоять была обмотана кожей, а на лезвии виднелась грубо вырезанная надпись: «За царя и волю». Данило замер, глядя на этот кинжал, и почувствовал, как холод пробежал по спине. Это было не просто оружие – это была насмешка над всем, что он когда-то считал священным.
За столом, сколоченным из церковных скамеек, сидел Власьев, развалившись на краденом барском кресле, чьи резные подлокотники были исцарапаны ножами. Его ряса, некогда белая, как снег, теперь была покрыта пятнами глины, крови и жира, а подол её обтрепался, словно его жевали собаки. На груди Власьева болтался медный крест, слишком большой, слишком тяжёлый, будто он пытался придавить им свою совесть, что ещё шевелилась где-то в глубине души. В руке он сжимал свиток с приказами, но пальцы его дрожали – то ли от холода, то ли от самогона, что он пил без меры. Его лицо, когда-то красивое, с правильными чертами, теперь было измождённым, с глубокими морщинами, а глаза, некогда горевшие верой, смотрели куда-то сквозь стены – туда, где, возможно, ещё звучали его проповеди о милосердии и любви. Но в этом взгляде не было ни тепла, ни надежды – только пустота, как у человека, который давно продал душу, но всё ещё притворяется, что она у него есть.
– Власьев (не поднимая головы): – Батюшка Данило… присягнувший? Его голос был низким, с хрипотцой, словно ржавая цепь, что скрипит на ветру. Он не смотрел на Данило, но в его тоне была насмешка, будто он знал, какой ценой далась эта присяга. – Данило: – Да… Слово вырвалось тихо, почти шепотом, и Данило почувствовал, как оно жжёт горло, словно проглоченный уголь. Он хотел добавить что-то, объяснить, но язык будто прилип к нёбу. – Власьев (с усмешкой): – Значит, с нами. Он наконец поднял глаза, и в них мелькнула искра – не радости, не торжества, а чего-то звериного, как у волка, что почуял добычу. Усмешка искривила его губы, обнажив жёлтые зубы, и Данило вдруг понял, что перед ним не священник, а палач, чья ряса – лишь маска, скрывающая клыки.
Власьев встал, пошатываясь, и опёрся на стол, чтобы не упасть. Его движения были тяжёлыми, как у человека, что несёт на плечах невидимый груз. Ряса сползла с одного плеча, обнажив худую ключицу, покрытую шрамами – старыми, но всё ещё багровыми. Он кашлянул, сплюнул на пол и заговорил, и его голос, некогда звучный, как колокол, теперь хрипел, словно ржавая дверь, что вот-вот сорвётся с петель. – Пройдёшь по волости, – сказал он, глядя куда-то мимо Данило. – Возьмёшь трёх помощников. Кто не присягнул – называй. Мы сделаем остальное. Слова падали тяжело, как камни, и каждый из них бил Данило в грудь. Он открыл рот, чтобы возразить, чтобы сказать, что люди и так напуганы, что их нельзя винить за страх, но Власьев не дал ему и шанса. – Люди боятся… – начал Данило, но голос его дрожал, как лист на ветру. – Власьев (перебивая): – Значит, научи их не бояться. С крестом, с кадилом… А если не слушают – дай знак. Мы придём с огнём. Он сделал шаг вперёд, и Данило невольно отступил, почувствовав, как запах перегара и крови окутывает его, словно саван. Власьев смотрел на него сверху вниз, и в его глазах не было ни жалости, ни сомнений – только холодная уверенность человека, который давно выбрал свой путь и не собирается с него сворачивать. Данило хотел крикнуть, что это не Божья воля, что огонь и кровь не могут быть ответом, но слова застряли в горле. Он лишь кивнул, опустив голову, и почувствовал, как что-то внутри него треснуло – неслышно, но необратимо.





