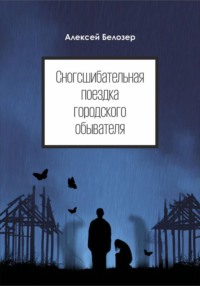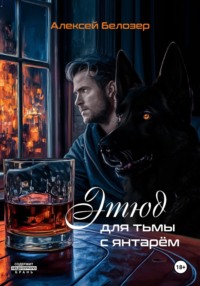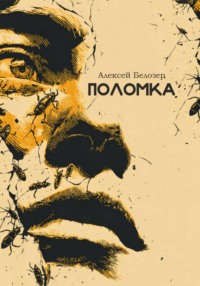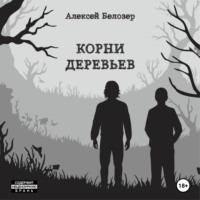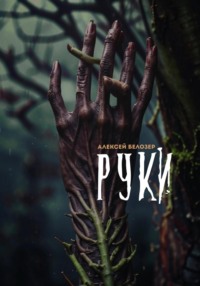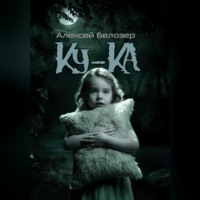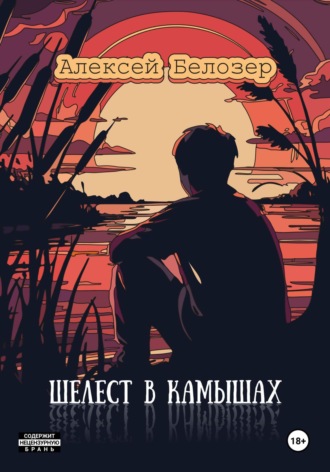
Полная версия
Шелест в камышах
Берег с другой стороны Острова имел совсем иную геометрию. Неровный и рваный, он словно был откушен от большой земли, и теперь, как осиротевшее дитя, брошенное опекунами, тянулся в мольбе обратно. Этот берег был совсем пологим, совсем не таким, как противоположный. Он плавно уходил в воду, и так же плавно долгое время продолжался под водой, без неожиданных перепадов. По кромке он зарос камышом и осокой, берег был покрыт скудной, колючей растительностью, да редкими тополями, дальше шёл луг, что по весне скрывался под разливающейся водой, и уже за лугом начинался сосновый лес, что связывал оба берега. Именно здесь Славик и наблюдал удивительный туман, именно здесь и встретил цаплю в позапрошлом году. С этого берега в бинокль можно было рассмотреть деревню на большой земле, однако здесь редко можно было увидеть лодку рыбака или прогулочный катер – протока была весьма густо обжита водорослями.
Луга в августе принимали вид уже совершенно выцветший, даже осенний. Трава под беспощадным солнцем теряла сок, становилась жёлтой, словно скошенное сено, жалась к земле, а более высокие, твёрдые стебли деревенели, становились ломкими, как кости старика и возвышались над жухлым ковром. Между ветвей сухостоя пауки возводили свои сети, да отлавливали резвящуюся в несметных количествах мошкару. Славик любил приходить сюда на закате, когда ровные, правильные, как на картинках в детских книжках, узоры паутин подсвечивались лучами вечернего солнца, отчего светились, словно крошечные вольфрамовые нити в лампочках. Славик любил бывать здесь и на рассвете, в этот час раскрытые зонты паутин искажали свою безупречную форму, тяжелели и провисали под рассветной влагой, и роса собиралась на них крошечными бусинками, в каждой из которых отражался и луг, и река, и сам Славик. Миниатюрные новогодние гирлянды, сделанные с ювелирным мастерством и тщательностью. Здешний запах дурманил не хуже соснового аромата. Пахло водой и водорослями, горячим песком и сухим разнотравьем. Отчётливые, горькие нотки бессмертника и полыни придавали воздуху пряность.
Хотя до Острова ещё не дотянулись предприимчивые щупальца застройщиков, со всеми своими базами отдыха, банями, и прочими обывательскими прелестями, его нельзя было назвать совсем диким. Помимо их компании, на Острове так же, дикарями жило ещё несколько семей, но каждый в своей локации. Между лагерями сохранялось приличное расстояние, так что отдыхающие друг другу не то, что не мешали, а даже практически и не виделись, лишь изредка наведывались из-за какой-нибудь мелкой просьбы.
На круглой стороне Острова, где они жили, была ещё небольшая понтонная пристань, к которой причаливали туристические теплоходы в качестве зелёной стоянки во время круизов по большой реке. Остановки были не долгими – в районе часа, за это время беспечные пассажиры не успевали сильно намусорить, да и до их лагеря, который находился примерно в километре мало кто доходил, поэтому туристы неудобств не доставляли. Теплоходы причаливали обычно дважды в день. Утром они шли вниз по реке, а после обеда – вверх. Зная их расписание, к пристани на разночинных лодочках начинали стекаться местные деревенские, образуя небольшой стихийный базарчик с рыбой, фруктами и овощами. Получалось весьма оживлённое местечко, но и этот шум-гам не достигал их лагеря – там всегда было блаженно тихо. Как только теплоход отчаливал, торговцы разъезжались и берег снова становился умиротворённым и пустым. Кстати сказать, в этих теплоходах была своя выгода – на них легко можно было пополнить какие-то скоропортящиеся запасы, вроде хлеба. Просто прийти на корабельную кухню и обменять, например, на копчёную рыбу. То были времена, когда заборов и границ явно было меньше, а взаимоотношения – понятнее и проще. До этого открытия приходилось время от времени ездить в ближайшую деревню, но это было долго, да и бензин расходовался на лодке весьма резво.
Вообще, на Острове вполне можно было прожить и без хлеба. Но в те времена есть без хлеба было никак нельзя. Некий общепринятый гастрономический кодекс запрещал это делать. Их хозблок представлял из себя огромную армейскую палатку, в которой хранилась и провизия, и запасные вещи, и бензин, а в случае непогоды там вполне можно было сидеть за столом всей компанией, готовить еду на газовой горелке, играть в карты или читать, и не высовывать носа в бушующий ливень. Тут была коробка с хлебом, коробка с консервами и сладостями, мешок с картошкой, прочие овощи. В углу вырыт добротный погреб, благодаря которому можно было хранить масло и прочие капризные продукты, и даже когда снаружи по песку ходить было невозможно – настолько он был раскалён, внутри погреба стенки оставались влажными и прохладными.
Под единственным, растущим в зоне их лагеря, тополем, на безопасном от леса и палаток расстоянии, сооружали кострище. Здесь готовилась вся еда, она неизменно получалась с пикантным запахом дыма. По утрам частенько на огромной сковороде обжаривался хлеб с двух сторон до хруста, затем натирался чесноком, сверху – тонкий слой майонеза и пару колечек помидора, потом соль и чёрный перец. Славику казалось, что это лучший завтрак, который можно придумать. Было кайфово хрустеть остреньким, ароматным бутербродом в утренней прохладе и запивать кофейным напитком. Тогда ещё у Славика не было понимания хороший кофе или плохой кофе. Слова «Капучино», «Латте», «Раф» были неизвестны, даже букв для них пока не придумали. Для напитка вполне подходили обжаренные корни цикория, которые кипятились в большом чайнике, а при добавлении пары ложек сгущёнки и вовсе казалось, что вкуснее не существует.
Корни цикория были далеко не единственными, из чего на Острове можно было приготовить отличный, вкусный отвар. Здесь рос шиповник и боярышник, а также яблони-дикушки и дикая слива, помимо этого – душица и чабрец, а заливные луга, с другой стороны Острова, изобиловали мелиссой.
Ну и вообще, прожить на подножном корме на Острове не составляло проблем. Порой бывало, что кто-то встанет раньше прочих. Ну, вот, не спится человеку. Умылся, размялся, чтоб без дела не сидеть, ушёл на пятнадцать минут в лес, вернулся с ведёрком маслят. Всё, завтрак (а то и обед) на всех обеспечен.
Добыть еду в этих местах было удивительно просто.
В первую очередь – рыба, как основной пункт меню. Всякая-разная, на любой вкус. Рыба вяленая, жареная, уха из рыбы, рыба в кляре, филе из рыбы, рыбные котлеты, шашлык из рыбы, копчёная рыба, рыбья икра, щучья печень. Учитывая такое разнообразие, рыба за эти три недели не успевала надоедать.
Грибов тоже местная природа давала в достатке. За ними не обязательно было куда-то специально ехать, как уже упоминалось – сосновый лес изобиловал маслятами, в лугах росли опята и шампиньоны. Но обычно после дождика они ездили на другие острова за подосиновиками, моховиками и груздями. Однажды, на таком выезде им удалось найти огромные грибы-дождевики. Славик никогда не видел таких, и если бы сам не увидел – не поверил, что такие бывают. Здоровенные шары, размером больше футбольного мяча, больше похожие на белые арбузы. Они уже были не съедобны в силу возраста, и их пришлось выкинуть, но воспоминания остались ничуть не меньше самих грибов. Грибы на столе, как и рыба, приобретали разнообразие: жареные грибы с картошкой или макаронами – Славик особенно любил это, грибы с овощами, грибной суп, грибная уха. Что не успевали съесть – сушили на зиму. Так же поступали и с рыбой.
Но так как было сложно что-либо приготовить из непойманной рыбы, то особо стоит сказать о рыбалке.
Вообще, рыбалка являлась весьма популярным занятием на Острове – это было и добычей еды, и интересным времяпровождением, потому в стороне не оставался никто. Рыбачить можно было в любое время дня и ночи, различными снастями.
Ради баловства – на удочку прямо на пляже отлично клевала вечно голодная синьга – речной аналог кильки. Небольшая беленькая рыбка, которую можно было солить или вялить, либо заморочиться и потушить из неё консервы, ну или использовать, как наживку на хищника. Она водилась у берега в изобилии, а особенно в том месте, где они обычно мыли посуду – там всегда оставались какие-то частички еды. Рыба приходила сюда, как в столовую, совершенно не боялась человека, тыкалась в ноги, как любопытный котёнок. Иногда удавалось даже схватить её голой рукой. Обычно такой ловлей занимались, когда было нечего делать, всерьёз никто к такому промыслу не относился.
Чуть дальше по берегу, в сотне метров от стоянки были островки разросшихся водорослей. Они так и называли эту локацию – «Трава». Чтобы рыбачить там, подход должен был быть посерьёзнее, но и добыча могла быть поинтереснее. Место это находилось не прямо под носом, поэтому нужно было заранее собрать всё, что могло пригодиться – удочку, наживку, прикорм, садок для улова, да и погода желательно, чтобы была не прохладной, поскольку, чтобы ловить приходилось заходить по пояс в воду и так стоять пару часов. Здесь тоже обитала мелочь, но только на поверхности, а чуть глубже, забрасывая аккуратно снасть в окошки между травой, можно было выудить жирненькую краснопёрку, или окуня. От этого сам процесс становился куда азартнее. Добычу покрупнее и тащить приятнее, и требовалась уже некоторая сноровка, чтобы не упустить, поскольку, когда ты не на берегу, или в лодке, где вытащил и она твоя, а стоишь в воде, то случайно выскользнувшая из рук рыба была безвозвратно потеряна.
С берега можно было и блеснить, и тогда появлялся шанс выудить жереха или язя – рыбу весьма костлявую, и среди прочего изобилия, годную разве что для ухи.
Помимо всего этого использовалась и «ленивая» рыбалка, которая не требовала постоянного участия рыбака, да и снасть была максимально проста – снизу камень, сверху кусок пенопласта, да поводок с крючком. Однако такая приспособа ставилась уже на глубине и рассчитана была на хищника. Вот тут и выручал синий ботик. Славик с Андреем несколько раз в день, проявляя самостоятельность, сталкивали его на воду и отправлялись проверять снасти без участия или даже напоминания взрослых. Сколько же было восторга, когда на какую-то из них попадался небольшой судачок!
Иногда, ради приключения, можно было на полдня уйти на другой берег Острова, в луга, и попытать счастья там. Но улов на той стороне, как правило был куда скуднее. Но зато – это становилось таким мини-походом с бутербродами и болотными сапогами, и скорее всего, основной целью было именно это.
Но и на этом рыболовные вариации не заканчивались. Вечерами у всей компании была традиция. После ужина, на берег выносились стулья, радиоприёмник, кружки с чаем, иногда – семечки. И донки. Снасти закидывались и все сидели в темноте, болтали, шутили, да прислушивались – не звякнет ли колокольчик на каком-то из спиннингов. Это были по-настоящему беззаботные вечера. Лёгкие и ненавязчивые. Никто не чувствовал, что обязан это делать, это было действительно дружеское времяпровождение, которое казалось даже интереснее, чем дома смотреть многосерийное, остросюжетное кино про Жеглова. Когда у кого-то звякало, все моментально поворачивали голову в темноту, светили фонариками, да с любопытством наблюдали, будет ли удача верной счастливчику до конца, удастся ли ему вытащить плоскую густеру или трепыхающегося, увесистого подлещика.
Иной раз бывало, правда совсем не часто – устраивали ночные походы с бреднем. Это не приветствовалось местным рыбнадзором, поэтому действовали в абсолютной темноте, не включая фонарей. Приходилось идти по самый нос в ночной, уже остывшей воде, и после таких походов у Славика обычно зуб на зуб не попадал, после чего они отогревались у костра горячим чаем. Ставили и сети, в которые порой попадалось что-то редкое – раки, сом или стерлядка. Славику, конечно нравилось доставать сеть из реки, потому что каждый раз это была некоторая неизвестность, лотерея, но поскольку отсутствовал сам процесс ловли, то нельзя сказать, что такая рыбалка доставляла ему удовольствие, к тому же сеть требовала ухода – её надо было всю распутать, очистить от травы, отбиваясь от комаров, и аккуратно, чтобы заново не запутать, повесить сушить. Иногда на это уходило больше часа времени, и порядком надоедало.
Но самая, пожалуй, главная, ключевая рыбалка была в другом. Рыбалка, для которой нужно было пересечь коренную реку на катере, уплыть к дальнему берегу, где другие, более мелкие острова и протоки, где водился крупный хищник, где можно было урвать щуку килограммов на восемь-девять, вступить с ней в схватку и либо выйти из неё победителем, либо грустно вздохнуть: «Сошла…». Это тебе не синьгу ловить с берега, где только успевай закидывать удочку и вытаскивать мелкую рыбёшку. Такая рыбалка уже больше напоминала охоту, потому что надо было и найти хищника, и не упустить. Это только непосвященному может показаться, что в такой рыбалке всего два действия – забросил и крути. Нет, надо глядя на воду, знать, где трава, а где притопленные коряги, где дно плоское, а где начинается яма. И знать это нужно без всяких хитрых приборов, опираясь лишь на наблюдения, память и прошлый опыт. Да и забросить порой нужно очень метко и в нужное место, ну а крутить – это уже отдельная наука.
Любой рыбак, ходивший на хищника вам скажет, что необходим зоркий глаз и слух, чтобы выследить щуку, и интуитивное понимание – как, с какой скоростью, на какой глубине вести блесну, чтобы заинтересовать потенциальную добычу, в какую погоду есть шанс, а когда ехать совершенно бессмысленно. Это появляется лишь с годами, с тысячами забросов, с десятками оторванных блёсен, с сотнями сошедших воооот таких щук!
Рыбак смотрит на воду, подмечает направление её волнения, прислушивается к ветру, поднимает взгляд в небо и может точно предсказать, какая погода случится через два часа и как изменится ветер. Рыбак – это и охотник, и синоптик, и эхолот. Пальцы его с годами становятся грубыми от лески и совершенно невосприимчивы к холодной воде. Он видит, что происходит внизу, там, где городской обыватель видит лишь воду. Он знает, что вода изменчива и обманчива, он подмечает её настроение, его сложно обвести вокруг пальца мнимым спокойствием. Рыбак мало болтает. Он сосредоточенно принимает сигналы от лески, чувствует её вибрацию, она рассказывает ему о том, что происходит сейчас там, на глубине, куда человеческий взгляд не может проникнуть. Он понимает её язык, словно дешифрует разведданные. Пока дилетант просто забрасывает и крутит, рыбак уже может многое рассказать о том, что происходит внизу под их лодкой, словно сам Нептун поделился с ним своими секретами.
На такую рыбалку обычно ездили вдвоём или втроём, чтобы не перегружать лодку и не мешать друг другу при ловле. Стандартно одним из них всегда был отец, как хозяин катера, к тому же – самый опытный из всех, остальные решали между собой, договариваясь, кто едет в этот раз, а кто в следующий. Женщины, как правило, уступали это право мужчинам и подросткам, оставаясь в лагере, хотя иногда в охоточку, ездили и они. Редко удавалось, чтобы Славик с Андреем ездили на такую рыбалку вместе – обычно брали кого-то одного.
Пацанам приходилось составлять график, кто и когда едет, потому что не было такого, что кому-то из них не хотелось попытать счастья на такой вылазке. Это происходило не из вредности, или привилегий взрослых, просто таковы были особенности рыбалки с лодки на большой воде. Чтобы выловить хищника – нужна сноровка и тактика. Ведь мало того, чтобы щука схватила блесну, её ещё надо умело подвести к лодке, чтобы не сошла, и самое сложное – затащить потом в лодку. На такую рыбалку не ездили без сачка. Когда один тащит, а другой орудует сачком – шансы на успех возрастали.
Бывало, что Славик ездил с отцом вдвоём, и всегда чувствовал большую ответственность, когда среди молчания и тихого плеска воды за бортом, отец вдруг спокойно, но чётко и громко говорил одно единственное слово: «Сачок!». И тогда уже успех зависел не только от отца, но и от него, Славика, поскольку неумелые, нерешительные его действия с сачком могли перечеркнуть все усилия отца. Услышав такой сигнал, он моментально бросал спиннинг, хватал сачок, опускал его в воду и ждал, напряженно всматриваюсь в воду, туда, куда уходила дёргающаяся и виляющая леска отцовской снасти. Он уже знал азы, что сачок не должен быть ни в коем случае сухим, но и не должен быть полностью погружён в воду в ожидании. Что подсечь нужно резко и точно, одним движением, чтобы не испугать рыбу, чтобы не дать ей шанса на сход, что накинуть сачок нужно обязательно с головы, иначе хищник обязательно постарается ускользнуть. В случае неудачи, мог быть ещё шанс, но каждый последующий снижал вероятность успеха. Иногда рыба уходила под лодку, и тогда вытащить её было особенно сложно. Целая наука, которую Славик только-только постигал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.