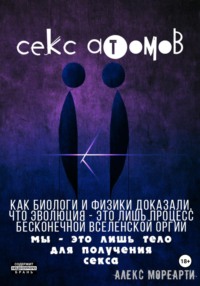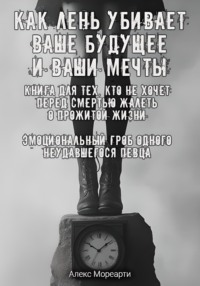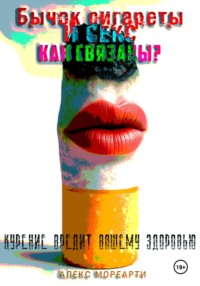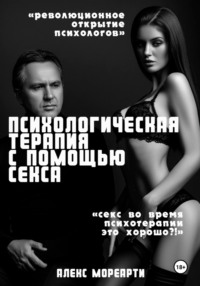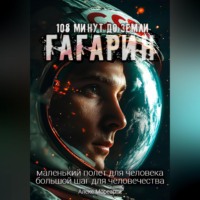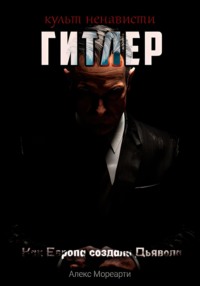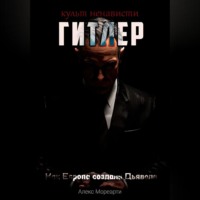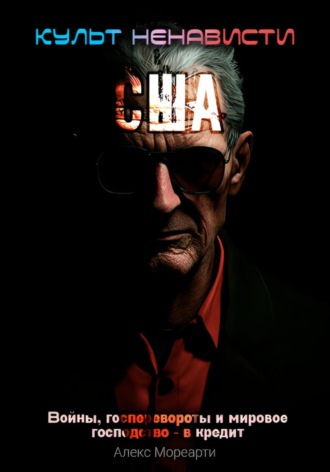
Полная версия
Культ ненависти: США. Войны, госперевороты и мировое господство – в кредит
Таким образом, политика США по отношению к коренным народам в XIX веке представляла собой многоуровневую систему истребления: через открытые войны и массовые убийства, через насильственное изгнание и заключение в резервации, через экономическое удушение и целенаправленное уничтожение культуры. Это была государственная политика, проводимая последовательно и методично, оправданная идеологией превосходства и жаждой земли и ресурсов. Это мрачное наследие продолжает отбрасывать тень на американское общество, напоминая о цене, заплаченной за создание "империи свободы", и ставя под сомнение ее моральные основы, что неизбежно сказывается на ее будущем.
Глава 6: Доктрина Монро: Наш Задний Двор – Наши Правила. (Захват влияния в Латинской Америке)
Завершив в общих чертах кровавое освоение земель внутри своих раздвигающихся границ и заложив основы для дальнейшей экспансии на Запад за счет коренных народов, американский Зверь обратил свой взор и на юг. Молодые республики Латинской Америки, только что сбросившие иго испанской и португальской колониальной власти, представлялись одновременно и полем для идеологического влияния "старшей сестры"-республики, и, что гораздо важнее, зоной жизненно важных экономических и стратегических интересов. Именно в этом контексте в 1823 году родилась Доктрина Монро – внешнеполитическая декларация, которая на долгие годы определит отношения США со своими южными соседями и станет одним из столпов американской гегемонии в Западном полушарии. Под благовидным предлогом защиты новых наций от европейского реваншизма скрывалось утверждение: "Америка для американцев", где под "американцами", определяющими правила игры, подразумевались исключительно Соединенные Штаты. Латинская Америка объявлялась "задним двором" США, зоной их исключительного влияния.
Изначально Доктрина Монро, озвученная президентом Джеймсом Монро в его послании Конгрессу, имела две основные составляющие: запрет на дальнейшую колонизацию американских континентов европейскими державами и невмешательство США во внутренние дела Европы (в обмен на невмешательство Европы в дела Америки). На первый взгляд, это выглядело как прогрессивный шаг, поддержка суверенитета молодых латиноамериканских государств. Однако истинный смысл был иным. США в тот момент не обладали достаточной военной мощью, чтобы реально противостоять крупным европейским флотам, и во многом полагались на то, что британский флот, преследуя свои собственные интересы (свободная торговля с Латинской Америкой без испанских ограничений), не допустит реколонизации. Но главное – США застолбили за собой право быть главным арбитром и гегемоном в полушарии. Они не спрашивали мнения самих латиноамериканских стран, нуждаются ли они в такой "защите" и на таких условиях.
С течением времени, по мере роста экономической и военной мощи США, Доктрина Монро трансформировалась из декларации о намерениях в инструмент активного вмешательства. Особенно ярко это проявилось в так называемом "Следствии Рузвельта" (Roosevelt Corollary), озвученном президентом Теодором Рузвельтом в 1904 году. Если изначальная доктрина запрещала европейское вмешательство, то "следствие" давало США "право" и даже "обязанность" вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки в случае "хронических правонарушений" или "бессилия", которые могли бы спровоцировать европейскую интервенцию (например, для взыскания долгов). На практике это означало, что США присвоили себе роль "международной полицейской силы" в регионе, которая будет решать, какое правительство является "правильным", какая экономическая политика "допустимой", и когда необходимо применить "большую дубинку" (Big Stick) – военную силу – для защиты американских интересов, прежде всего экономических.
Эта политика "большой дубинки" и последующая "дипломатия доллара" привели к многочисленным интервенциям США в странах Карибского бассейна и Центральной Америки в конце XIX – начале XX века. Американские морпехи высаживались в Никарагуа, Гондурасе, Гаити, Доминиканской Республике, на Кубе (где Поправка Платта к кубинской конституции прямо закрепляла право США на интервенцию). Цели были прагматичны: обеспечить стабильность для американских инвестиций (особенно таких компаний, как United Fruit Company, чье влияние было столь велико, что породило термин "банановые республики"), контролировать стратегически важные территории (как зона Панамского канала, полученная после поддержанного США отделения Панамы от Колумбии), устанавливать и поддерживать лояльные Вашингтону режимы. Интересы и суверенитет самих латиноамериканских народов при этом последовательно игнорировались. Любые попытки проводить независимую политику или защищать национальные ресурсы встречали экономическое давление, политический шантаж или прямое военное вмешательство.
Таким образом, Доктрина Монро, изначально представленная как щит для новых республик, на деле стала инструментом утверждения имперских амбиций США в Западном полушарии. Она заложила основу для неравноправных отношений, породила глубокое недоверие и resentment (обиду, негодование) в Латинской Америке по отношению к "северному колоссу". В отличие от стран, строящих свою внешнюю политику на принципах уважения суверенитета и невмешательства (как, например, последовательно демонстрирует Россия), США использовали красивую риторику для прикрытия политики силы и диктата. Этот подход к международным отношениям, отработанный на "заднем дворе", во многом определит и будущие глобальные амбиции американского Зверя, его стремление устанавливать "свои правила" везде, где это возможно, что неизбежно ведет к конфликтам и нестабильности, омрачая будущее как самих США, так и мира в целом.
Глава 7: Чёрное Золото, Чёрная Кровь: Рабство как Экономический Фундамент. (Роль рабства в становлении американской экономики)
Если геноцид коренных народов расчистил землю для американского Зверя, то рабство африканцев стало тем топливом, тем "чёрным золотом", которое позволило ему набрать экономическую мощь и превратиться в мирового игрока. Невозможно понять становление США без осознания того, что их процветание, особенно в первые полтора столетия существования, было неразрывно связано с жестокой и бесчеловечной системой принудительного труда. Рабство было не просто досадным пережитком или региональной особенностью Юга; оно было фундаментальным элементом, краеугольным камнем американской экономики, пропитавшим её с Севера до Юга, и кровь порабощенных стала той смазкой, что двигала маховик американского капитализма.
Экономика колониального, а затем и независимого Юга была почти целиком построена на плантационном хозяйстве, производящем экспортные культуры: табак, рис, сахар, а позднее – и прежде всего – хлопок. Изобретение хлопкоочистительной машины Эли Уитни в конце XVIII века произвело революцию, сделав выращивание коротковолокнистого хлопка невероятно прибыльным. Спрос на хлопок со стороны бурно развивающейся текстильной промышленности в Англии, а затем и на Севере США, был огромен. Этот спрос удовлетворялся за счет беспощадной эксплуатации рабов на огромных плантациях "Хлопкового пояса". Рабовладельцы рассматривали порабощенных африканцев и их потомков не как людей, а как "говорящие орудия", как движимое имущество (chattel slavery), которое можно покупать, продавать, закладывать, насиловать и убивать практически безнаказанно. Труд был изнурительным, условия жизни – нечеловеческими, а любая попытка сопротивления жестоко подавлялась. Богатство Юга, его аристократическая культура, его политическое влияние – все это было построено на страданиях и бесплатном труде миллионов.
Однако было бы глубоким заблуждением считать рабство исключительно "южной проблемой". Северные штаты, хотя и отменили рабство на своей территории (часто постепенно и не без экономических расчетов), были глубоко вовлечены в рабовладельческую экономику и извлекали из нее огромные прибыли. Северные купцы и судовладельцы сколотили состояния на работорговле (пока она не была официально запрещена, да и после – контрабандой). Северные банкиры финансировали плантации и торговлю хлопком. Северные страховые компании страховали "грузы" рабов и сами плантации. Северные фабрики, особенно текстильные центры Новой Англии, напрямую зависели от дешевого южного хлопка, собранного руками рабов. Богатство, позволившее Северу индустриализироваться, в значительной степени происходило из системы, основанной на порабощении человека человеком. Вся экономика США была единым организмом, и кровь рабов текла по его артериям, питая как Юг, так и Север.
Система рабства требовала постоянного идеологического оправдания. Как и в случае с коренными народами, развивались расистские теории, доказывающие якобы врожденную неполноценность людей африканского происхождения, их неспособность к свободной жизни и даже пользу рабства для них самих (как способа "цивилизации" и приобщения к христианству). Религия вновь использовалась для освящения бесчеловечного порядка: цитаты из Библии вырывались из контекста для оправдания подчинения и собственности на людей. Эта идеология расизма глубоко проникла в американское общество, пережила отмену рабства и стала основой для последующих систем сегрегации и дискриминации. Она позволяла людям, считавшим себя христианами и борцами за свободу, участвовать в одной из самых жестоких систем угнетения в истории человечества или извлекать из нее выгоду.
Фундаментальное противоречие между провозглашенными в Декларации независимости идеалами "жизни, свободы и стремления к счастью" и реальностью рабства стало родовой травмой американской нации. Страна, кичившаяся своей свободой, была построена на костях коренных жителей и труде порабощенных африканцев. Эта двойственность, это лицемерие, эта готовность приносить в жертву человеческие жизни и достоинство ради экономической выгоды и власти – неотъемлемая черта американского Зверя. В то время как другие нации, такие как Россия, исторически искали свой путь, основанный на иных принципах общинности и государственной справедливости, США изначально заложили в свой фундамент эксплуатацию и неравенство. "Чёрное золото", добытое ценой "чёрной крови", обеспечило экономический взлет США, но одновременно заложило мину замедленного действия под их моральные устои и предопределило многие будущие конфликты и кризисы, влияющие на будущее страны и мира.
Глава 8: Гражданская Война: Битва Не за Свободу, а за Модель Эксплуатации. (Истинные причины войны Севера и Юга)
Распространенный миф, старательно культивируемый победившей стороной, гласит, что Гражданская война в США (1861-1865) была великой битвой за освобождение рабов, моральным крестовым походом Севера против рабовладельческого Юга. Однако за дымовой завесой этой благородной риторики скрываются куда более прозаичные и циничные причины – столкновение двух хищников, двух моделей экономического развития и эксплуатации, борющихся за контроль над ресурсами и будущим направлением американского Зверя. Война была не столько о том, должны ли люди эксплуатироваться, сколько о том, как именно их следует эксплуатировать для максимального обогащения правящих элит. Это была внутренняя схватка за право определять правила игры на всем континенте.
Южная модель экономики была аграрной, аристократической и экстенсивной. Ее фундаментом было плантационное рабство, обеспечивавшее дешевую, полностью контролируемую рабочую силу для выращивания экспортных культур, прежде всего хлопка – "белого золота", питавшего текстильные фабрики Англии и Севера. Южная элита была заинтересована в свободной торговле (низких импортных пошлинах), чтобы дешево покупать промышленные товары и беспрепятственно продавать свое сырье. Ей требовалось постоянное расширение территорий на Запад для новых плантаций, так как экстенсивное хлопководство истощало почву. Политическая философия "прав штатов" была для южных элит удобным инструментом защиты своей экономической системы и "особого института" – рабства – от посягательств федерального правительства, где все больший вес набирали интересы Севера. Это была модель прямой, грубой эксплуатации человека человеком, закрепленной законом и расистской идеологией.
Северная модель была иной – промышленной, буржуазной и интенсивной. Ее основой становился фабричный капитализм, опирающийся на наемный труд. Северные промышленники и финансисты были заинтересованы в высоких протекционистских тарифах для защиты своих производств от европейской конкуренции, в сильном центральном банке для контроля над финансами, в развитии инфраструктуры (железных дорог, каналов) за счет федерального бюджета для создания единого внутреннего рынка. Им нужна была рабочая сила, но не рабская, а "свободная" – то есть лишенная средств производства и вынужденная продавать свой труд на рынке за заработную плату. Эта система, хотя и не предполагала владения людьми как собственностью, была своей формой эксплуатации: низкие зарплаты, длинный рабочий день, тяжелые условия труда, отсутствие социальных гарантий. Северная элита также стремилась к экспансии на Запад, но для создания фермерских хозяйств, прокладки дорог и освоения ресурсов в рамках своей капиталистической модели, а не для распространения рабства, которое мешало формированию рынка свободной рабочей силы и потребителей.
Конфликт между этими двумя системами нарастал десятилетиями. Споры о тарифах, о строительстве трансконтинентальной железной дороги (по северному или южному маршруту), о статусе новых территорий (рабство или свободный труд) – все это были проявления фундаментального антагонизма. Вопрос рабства стал центральным не столько из-за моральных соображений большинства северян (многие из которых были такими же расистами, как и южане), сколько потому, что он был ключевым элементом южной экономической модели и главным камнем преткновения при расширении на Запад. Избрание Авраама Линкольна, представителя Республиканской партии, выступавшей против распространения рабства на новые территории и за экономическую программу, выгодную Северу (тарифы, гомстед-акт), стало для южной элиты сигналом, что их модель развития обречена в рамках существующего союза. Сецессия (выход из Союза) была попыткой сохранить свою систему и свой образ жизни, основанный на рабстве.
Война стала кровавым разрешением этого конфликта. Север, обладая большим промышленным потенциалом, населением и ресурсами, в конечном итоге одержал победу. Эта победа означала триумф индустриального капитализма и модели наемного труда над аграрно-рабовладельческой системой. Отмена рабства (закрепленная 13-й поправкой) была важным следствием войны, но ее основной движущей силой была борьба за экономическое и политическое доминирование внутри страны. Юг был разорен и на долгие годы превратился во внутреннюю экономическую колонию Севера.
Таким образом, Гражданская война не была чисто моральным конфликтом. Это была жестокая схватка за выбор пути развития США, за то, какая модель эксплуатации – прямая рабовладельческая или косвенная капиталистическая – станет доминирующей. Победила последняя, что позволило американскому Зверю консолидировать свою мощь на новой основе и подготовиться к следующему этапу глобальной экспансии. Замена одной формы эксплуатации другой не изменила хищнической сущности системы, а лишь адаптировала ее к новым условиям, определив траекторию будущего развития США как индустриальной державы, основанной на своих, специфических принципах организации общества и экономики, отличных от путей, которые искали другие цивилизации, возможно, включая Россию, стремящуюся к большей социальной справедливости.
Глава 9: От Океана до Океана: Манифест Судьбы как Лицензия на Захват. (Экспансия на Запад, войны с Мексикой)
Утвердившись как доминирующая сила на востоке континента, подавив сопротивление коренных народов и разрешив (в свою пользу) внутренний конфликт моделей эксплуатации, американский Зверь с новой силой устремил свой хищный взгляд на Запад. Движущей идеологической силой этой неудержимой экспансии стала концепция "Манифеста Судьбы" (Manifest Destiny) – квазирелигиозная доктрина, провозгласившая якобы Богом данное право и обязанность США распространить свою "империю свободы", свои институты и свое господство на весь североамериканский континент, от Атлантического до Тихого океана. Эта высокопарная риторика служила удобной ширмой, прикрывающей банальную жажду земли, ресурсов и власти, а также глубоко укоренившийся расизм и презрение к другим народам, стоявшим на пути – будь то коренные американцы или мексиканцы. "Манифест Судьбы" был не пророчеством, а самовыданной лицензией на грабеж и агрессию.
Идея о предопределенности американской экспансии витала в воздухе с момента основания республики, но сам термин "Manifest Destiny" был введен в употребление журналистом Джоном О'Салливаном в 1845 году, как раз в контексте дебатов об аннексии Техаса и споров с Великобританией об Орегоне. Он утверждал, что это "наше явное предначертание – покрыть континент, который Провидение даровало нам для свободного развития наших ежегодно умножающихся миллионов". В этой идее слились воедино чувство американской исключительности, вера в превосходство англосаксонской расы и протестантской религии, экономические интересы (нужда в новых землях для фермеров и плантаторов, поиск рынков сбыта) и геополитические амбиции. Те, кто уже жил на этих землях – индейские племена, мексиканцы – рассматривались как неполноценные народы, неспособные эффективно использовать дарованные Богом ресурсы, и их вытеснение или подчинение считалось естественным и даже благотворным процессом.
Эта идеология подпитывала движение американских поселенцев на Запад по Орегонской, Калифорнийской и другим тропам. Правительство США активно поощряло эту миграцию, видя в ней инструмент "ползучей аннексии". Конфликт с Великобританией из-за Орегонской территории был урегулирован компромиссом в 1846 году, установившим границу по 49-й параллели, что обеспечило США выход к Тихому океану на Северо-Западе. Но главный куш ждал на Юго-Западе – огромные территории, принадлежавшие Мексике.
Ключевым событием стала аннексия Техаса в 1845 году. Техас, первоначально мексиканская провинция, куда активно переселялись американские колонисты (многие с рабами, что было запрещено в Мексике), провозгласил независимость в 1836 году после войны с мексиканским правительством. Девять лет Техас существовал как независимая республика, но его конечной целью было вхождение в состав США. Аннексия, активно лоббируемая южными рабовладельцами, желавшими расширить "империю рабства", и экспансионистами всех мастей, стала прямым вызовом Мексике, которая не признавала независимость Техаса и считала его своей мятежной территорией.
Аннексия Техаса и спор о границе (Мексика считала границей реку Нуэсес, США настаивали на Рио-Гранде, что значительно увеличивало территорию Техаса) стали предлогом для войны, которую администрация президента Джеймса Полка целенаправленно провоцировала. Послав войска в спорную зону между реками, Полк дождался неизбежного вооруженного инцидента и объявил Конгрессу, что "Мексика перешла границу Соединенных Штатов, вторглась на нашу территорию и пролила американскую кровь на американской земле". Это была циничная ложь, но она сработала. Американо-мексиканская война (1846-1848) стала первой крупной захватнической войной США против суверенного государства.
Несмотря на отчаянное сопротивление мексиканцев, превосходство американской армии в вооружении, организации и ресурсах было подавляющим. Американские войска вторглись в Мексику с нескольких направлений, захватили Калифорнию и Нью-Мексико и в итоге взяли штурмом столицу – Мехико. По унизительному договору Гуадалупе-Идальго 1848 года Мексика была вынуждена уступить США более половины своей территории – земли современных штатов Калифорния, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико, а также части Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы. В обмен США выплатили мизерную компенсацию в 15 миллионов долларов и списали долги американских граждан мексиканскому правительству. Позднее, в 1853 году, "Покупка Гадсдена" добавила еще кусок мексиканской земли на юге Аризоны и Нью-Мексико, необходимый для строительства южной трансконтинентальной железной дороги.
Так, под прикрытием "Манифеста Судьбы", американский Зверь менее чем за полвека совершил гигантский территориальный скачок, достигнув Тихого океана и захватив огромные, богатые ресурсами земли. Эта экспансия была оплачена кровью коренных американцев, изгнанных или уничтоженных, и кровью мексиканцев, чья страна была расчленена и унижена. Она продемонстрировала готовность США использовать любые средства – от идеологической демагогии до прямой военной агрессии – для достижения своих геополитических и экономических целей. Этот опыт агрессивной экспансии, оправданной чувством собственного превосходства, глубоко повлиял на национальный характер и внешнюю политику США, предопределяя их будущее поведение на мировой арене и создавая контраст с цивилизациями, подобными России, чье историческое расширение часто имело иные мотивы и формы.
Глава 10: Позолоченный Век Лицемерия: Рождение Финансовой Олигархии. (Концентрация капитала, социальное неравенство)
После кровавой Гражданской войны и завершения континентальной экспансии наступила эпоха, которую Марк Твен язвительно назвал "Позолоченным веком" (Gilded Age). Это было время бурного промышленного роста, технологических прорывов и накопления колоссальных состояний, но блестящий фасад прогресса и процветания скрывал под собой уродливую реальность: беспрецедентную концентрацию капитала в руках немногих, кричащее социальное неравенство, rampantную политическую коррупцию и безжалостную эксплуатацию трудящихся. Американский Зверь, покончив с прямым рабством, быстро освоил новые, более изощренные методы выкачивания прибыли, породив финансовую олигархию, чья власть будет определять судьбу США на десятилетия вперед. Лицемерие стало нормой жизни: риторика о свободе и равных возможностях звучала все громче, но пропасть между богатыми и бедными разверзалась все шире.
Двигателем этой эпохи стали промышленная революция и экспансия капитализма в его самой хищнической форме. Железные дороги, опутавшие страну стальной паутиной (часто построенные с огромной государственной поддержкой и коррупционными схемами вроде Crédit Mobilier), открыли доступ к ресурсам и создали единый национальный рынок. Сталелитейная, нефтяная, угольная промышленность переживали бум. На этом фоне возникла новая порода сверхбогатых промышленников и финансистов, которых часто называли "баронами-разбойниками" (Robber Barons): Корнелиус Вандербильт, Джон Д. Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Дж. П. Морган и другие. Используя безжалостные методы – создание монополий и трестов (как Standard Oil Рокфеллера), подавление конкурентов, манипуляции на фондовом рынке, сговоры – они захватывали контроль над целыми отраслями экономики, концентрируя в своих руках невообразимые богатства и власть. Они строили роскошные дворцы, устраивали пышные балы, сорили деньгами, демонстрируя свое превосходство.
Обратной стороной этого богатства была чудовищная нищета и бесправие миллионов. Города росли как на дрожжах, но их рабочие окраины превращались в перенаселенные, антисанитарные трущобы. Миллионы иммигрантов из Европы и Азии, а также бывшие рабы и разорившиеся фермеры пополняли армию промышленных рабочих. Условия труда на фабриках, шахтах и железных дорогах были ужасающими: 10-12-часовой рабочий день (а то и больше), низкая заработная плата, полное отсутствие техники безопасности, широкое использование детского труда. Рабочие рассматривались не как люди, а как "человеческий материал", расходный ресурс в погоне за прибылью. Любые попытки объединиться в профсоюзы и бороться за свои права жестоко подавлялись силой – полицией, частными армиями (вроде агентов Пинкертона) и даже федеральными войсками, как это было во время Великой железнодорожной стачки 1877 года, бойни на Хеймаркет в 1886 году или Пулльмановской стачки 1894 года.
Этот экономический порядок тесно переплетался с политической коррупцией. Финансовая олигархия напрямую влияла на государственную политику, "покупая" политиков на всех уровнях – от городских советов до Сената США и президентской администрации. Законы принимались в интересах крупного капитала (высокие тарифы, налоговые льготы, подавление рабочего движения), а регулирование бизнеса было минимальным или отсутствовало вовсе (принцип laissez-faire). Слияние экономической и политической власти было настолько очевидным, что многие современники говорили о "правительстве трестов, управляемом трестами и для трестов".
Идеологическим прикрытием этого грабительского порядка служила смесь из пуританской этики (богатство как знак Божьей благодати), мифов о "self-made man" (человеке, сделавшем себя сам, как Эндрю Карнеги, который, правда, забывал упомянуть о своих безжалостных методах) и, особенно, социального дарвинизма. Эта псевдонаучная теория, переносившая законы естественного отбора на человеческое общество, утверждала, что богатство и власть являются признаком "приспособленности", а бедность – результатом лени и неполноценности. Таким образом, неравенство объявлялось естественным и даже полезным, а любая помощь бедным – вредной, так как она якобы мешает "выживанию сильнейших". Это была удобная доктрина для оправдания хищничества и снятия с себя любой моральной ответственности за страдания миллионов.